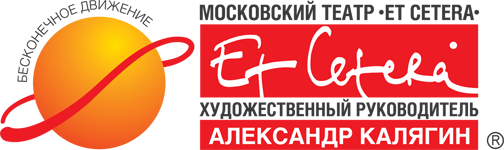06.07.1995
Там, за горизонтом
Александр Шевляков ,
"Подмосковные известия"
10.06.1995
Дальние страны калягинцев
Ольга Фукс ,
"Вечерний клуб"
01.06.1995
Там, «за горизонтом»…
Юрий Фридштейн ,
"Общая газета"
17.05.1995
Жизнь за горизонтом
Ирина Алпатова ,
"Культура"
11.05.1995
Дорога к самому себе
Ирина Зверева ,
"Экран и сцена"
14.04.1995
За горизонтами наших душ
Наталия Балашова ,
"Московская правда"
04.02.1995
Против течения
Ирина Алпатова ,
"Культура"
02.02.1995
Обман? Предательство? Измена…
Юрий Фридштейн ,
"Экран и сцена"
20.01.1995
В вихре вальса
Марина Зайонц ,
"Сегодня"
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
В вихре вальса
Марина Зайонц
"Сегодня" ,
20.01.1995
В последнее время ностальгия буквально преследует людей по пятам: навязчиво вмешивается в жизнь, заползает в сердце, путает мысли, вяжет по рукам, грубо хватает за горло и душит. Помутневший взгляд скользит по проступающим теням; полузакрытые глаза слезятся от напряженного всматривания; обморочная, наркотическая легкость обнимает погрузневшие тела и кажется еще немного, еще чуть-чуть и невозможное случится — бессмысленно ненужная, волоком тянущаяся жизнь отойдет в сторонку и на авансцену выплывет сверкающее, отмытое до стерильной, счастливой чистоты прошлое, разом отменившее все ошибки и неудачи, стеснение, страх и дожидающуюся на крылечке старость. «Измена» в театре Калягина — тот случай, когда мотивы и побуждения захватывают сильнее поступка. Когда внесценическая завязка истории оказывается значительней и драматичней кульминации: самого спектакля, предъявленного публике. Так и представляется, как Геннадий Сайфулин — эфросовский актер, общий друг Колька и брат Алеша, — твердит как заклинание, как спасительную ворожбу слова, завершавшие когда-то один из лучших спектаклей на Малой Бронной: «Ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства… Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь». Пионер Колька и Алеша Карамазов — памятные знаки судьбы, вихрем взмывшей однажды в поднебесье. Отчего удар о земную твердь стал особенно болезненным. Эфросом же привитое брезгливое отторжение от вялого непрофессионализма, опутавшего театр, где назначено доживать, зияет теперь открытой раной посреди антисептического пространства. Память о прошлом, «воспоминание, вынесенное с детства», как-нибудь доживать не позволяла, била поддых и требовала поступка. Думаю, что Сайфулин устремился в режиссуру от безвыходности, от теснящего душу невнятного желания сказать: «Все это было, вы слышите, было». Больной порыв, отчаянный бросок назад, чтобы еще раз доверчиво ткнуться в руки, защитившие от жизни и бросившие — в жизнь. Высказывание получилось каким-то торопливо-скромным и скомканным, что, собственно, и должно было случиться. Профессионализм — дело жестокое, несентиментальное, по-своему выворачивающее чистые порывы души, — к воспоминаниям относится с подозрением. Сайфулин, не претендуя на многое, взял маленькую пьесу о мужском предательстве и женской измене, протянул руку еще одному брату Алеше, человеку со стороны Анатолию Грачеву, позвал Валентина Смирнитского — Треплева, Меркуцио и Андрея Прозорова — и Наталью Сайко, актрису с Таганки, которой тоже есть что вспомнить. Спектакль по Пинтеру больше всего напомнил спиритический сеанс, затеянный в походных условиях кочующего по чужим сценам театра. Уныло-сборная декорация (художник Оксана Винарчук) живо напоминала демонстративно-бедную условность 60-х годов. Стулья и рисованные щиты на голой сцене — ну просто все «104 страницы про любовь» сразу. Голос Сайфулина, читающий ремарки, напоминал о самом Эфросе, любившем делать нечто подобное: знак личного участия, роспись в конце страницы. Физиологическая память работала безотказно — до боли знакомые небрежно-легкомысленные интонации и эфросовские жесты, особенно заметные у Грачева. При этом: не точный и не отчетливый рисунок, скользящий по поверхности текста. Пинтер режиссеру не помог, он усложнил его работу, заставив события пьесы разворачиваться назад, отталкивая героев от привычки к неведению, от усталости к незамутненному счастью. Актерам всего-то и нужно было проявить четыре разных состояния — стремительно и внятно, как когда-то. Но тренировка нужна не только балетным артистам, и даже лучший из участников — Грачев скрывает постигшую его негибкость манерой. Причудливость эфросовского рисунка была хороша только в его собственном исполнении. Повтор, при всем наивном благородстве намерений, превращает манеру в манерность. Актеры увязают в словах, и смотреть спектакль делается скучно. Как бы в предчувствии подобной реакции Сайфулин отдает зрителю самое дорогое, что есть у него в запаснике. Культовый для всех эфросоманов вальс из первых «Трех сестер» (где Сайфулин и Грачев опять играли одну роль — Федотика). Эта медью озвученная музыка финала окончательно заглушает робкую «Измену», постепенно набирает силу, разворачиваясь отчаянной беспомощностью духового оркестра. Под этот вальс, пришедший издалека, они вышли на поклоны — такие знакомые, такие родные, поседевшие и полысевшие актеры. В которых начинаешь вдруг пристально всматриваться — испуганно и нежно, как в зеркало.