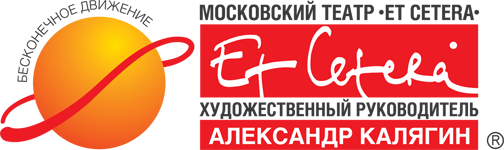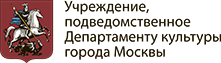11.12.1997
Не так все серьезно
Александра Васильева ,
"Экран и сцена" №50
01.12.1997
Это не ремесло
Наталья Крымова
14.11.1997
Главное - жить "не хуже людей"
"Подмосковные известия"
01.10.1997
Играем Шекспира
Валентина Горшкова ,
"Московская правда"
01.10.1997
Собиратель пустейших пустяков
Юрий Фридштейн ,
"Экран и сцена"
27.09.1997
Шоу про Шекспира
Виктория Никифорова ,
"Русский телеграф"
09.09.1997
Et Cetera Opens Home With "Lady"/Et Cetera открывает свой дом «Смуглой леди»
Джон Фридман ,
"The Moscow Times"
01.09.1997
Про Шекспира, которого могло и не быть
Александр Иняхин ,
Газета "Век"
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Собиратель пустейших пустяков
Юрий Фридштейн
"Экран и сцена" ,
01.10.1997
Роман Козак обожает «глумиться над классиками», являя собою просто образцово-показательный пример «театрального хулигана». Но классики, как правило, к хулиганству тоже склонность имели – откровенную и неприкрытую. Ставя «Смуглую леди сонетов», Козак оказался особенно в своей стихии. Во-первых, классиков на этот раз – сразу двое: автор пьесы – Джордж Бернард Шоу и ее герой – Уильям Шекспир. Да еще оба люди театра, то есть по природе своей шуты и лицедеи, для которых молниеносная смена масок, личин, настроений, переход от патетики к фарсу являются профессией. Козак воспользовался двойственностью (или тройственностью?) той игры, что предложил Шоу в своем, в высшей степени хулиганском, маленьком шедевре. Где он обошелся со своим великим предшественником Шекспиром ровно так, как одному гению следует обходиться с другим: дерзко-непочтительно и коленопреклоненно в то же время. Александру Калягину, сыгравшему Шекспира в этом спектакле, пригодилось все: и чаплинская бездонная печаль его « тетки Чарлея», и ужимки, придуманные для него Эфросом в «Тартюфе», и трагические бездны идеального чеховского Платонова. Его Шекспир земной, ухватистый мужичок, готовый повалить на землю любую приглянувшуюся ему девку, будь она хоть трижды английской королевой, и печальный поэт, способный воспарить в такие горные выси, куда простому смертному путь закрыт и неизвестен. В спектакль вплетены сцены из «Много шума из ничего», где Калягин играет (или репетирует, прямо сейчас, перед нами?) роль Бенедикта, то «пробалтывая» текст, то читая его по бумажке, аффектированно комикуя и получая немыслимое наслаждение от этой игры. Игры в перевертыши, где, где, конечно же, он не одинок. Беатриче – Татьяна Владимирова ему под стать: столь же естественно чувствующая себя в стихии фарсовой игры и откровенного актерства. Столь же раскованны и травестийно- забавны и «младшие»: Екатерина Редникова и Игорь Золотовицкий. Ну вот вступление закончилось, точнее неожиданно оборвалось, опустился занавес, отделяющий ложу, в которой происходила эта своеобразная прелюдия, от зрительного зала, и под нежную, печальную музыку неслышно раздвинулся занавес сцены основной, той, на которой и будет играться сама пьеса Шоу (сценография Екатерины Кузнецовой). Траурный черный тюль, за ним, слева, одинокое, раскидистое дерево в цвету. Справа своеобразная, мармеладно-паточная пародия на фонтан. В глубине строгая дворцовая галерея, на которой в какой-то момент и возникает, словно в сомнамбулическом сне, королева Англии Елизавета. На эту сцену, переодеваясь на ходу, меняя не только костюм, но и обличье, выходит Калягин-Шекспир. Ничего от «елизаветинского блеска»: простолюдин в неприметно-непрезентабельной серой одежде. Он немолод и устал. В руках у него какой-то потрепанный то ли портфель, то ли сума, откуда он будет извлекать «дощечки», чтобы заносить на них понравившиеся ему выражения, как лукаво-простодушного Стража (И.Золотовицкий), так и изысканно-утонченной Королевы. Он пришел на свидание со своей возлюбленной (Марией, той самой Смуглой леди), но встретил вместо нее великую королеву, к тому же оказавшуюся изумительной Женщиной, в некотором смысле тоже Поэтом: неслыханная гордыня, царственное величие, не напускное, не деланное – настоящее. И одновременно ощущение пронзительного одиночества, которое она несет гордо и обреченно. А еще для нее самой неожиданная влюбленность в этого проходимца, в ком она разглядит и признает себе равного. У пьесы Шоу есть своя история. Равно как есть и своя история у взаимоотношений Шоу и Шекспира. Также весьма непростая. На поверхности ее явная нелюбовь Шоу к пропыленному классику (а в действительности к покрытой вековой пылью шекспировскому театру рубежа ХIХ – ХХ веков). Однако истинное отношение Шоу к своему великому предшественнику вполне сказалось (точнее открылось), когда он начал писать о нем пьесу. Пьеса писалась, с одной стороны, по заказу (к Шоу обратилось с просьбой о пьесе «Шекспировское общество»), с другой, заказ вполне совпал с полемическим запалом Шоу: незадолго до того на свет божий появилась пьеса Фрэнка Харриса, драматурга и шекспироведа, к тому же друга Шоу, которая последнего до невозможности раздражила, В присущей ему манере Шоу написал к своей пьесе пространное вступление, размером раза в полтора длиннее самого текста. «Я убежден, что он был очень похож на меня», – пишет Шоу о Шекспире, а одну из главок даже называет «веселость гения». Говоря о героях пьесы Харриса, замечает: « В нем мне не хватает шекспировской саркастичности и веселости. Отнимите их у него – и Шекспир перестает быть собой, исчезнут хватка, горячность, сила, мрачное упоение смотреть со смехом в лицо страшным фактам». Так вот, главное совпадение авторов спектакля (актера и режиссера) с автором пьесы – внеприятии «идолопоклонничества» – сочетающемся с их глубочайшим пиететом в отношении Гения. Козак ввел в текст пьесы шекспировские фрагменты. К примеру, все в том же предисловии Шоу пишет о Смуглой леди: «Вообразите себе, с какими чувствами читает она сто тридцатый сонет!» И вот – Смуглая леди (Е.Редникова) взбешенно и глумливо читает строки сонета, кажущиеся ей в высшей степени оскорбительными, и эти же строки беззвучно повторяет за ней Шекспир-Калягин, а внимает им в немом восхищении Королева. В конце разговора Шекспира и Елизаветы – каждый уже знает, с кем он говорит, пелена неведения распалась, и безродный комедиант обращается в этот миг к властительнице вселенной. Умоляя королеву «отпустить средства на постройку большого дома для представлений, для просветления и услаждения подданных» ее величества, он незаметно, но так естественно начинает читать монолог Лира над телом мертвой Корделии. Кажется, все против актера – его совсем не героическая внешность, нелепые театральные одежды из всеми тысячекратно осмеянного «шекспировского реквизита»: какой- то плащ «из подборки», на голове лавровый венок. Но – его голос! Его интонации! Этот жалкий комедиант, этот безродный актер до боли, до слез читает монолог своего Лира. Свой монолог! Елизавета, в той самой ложе, где еще всего час назад разыгрывались пародийно-травестийные сценки из «Много шума…», теперь одна. В полной тишине и в царственном облачении, слушает человека, который (теперь она это знает точно) прославит и ее, и ее царствование, и ее век (елизаветинский век!). Прославит не потому, что будет писать оды в ее честь, но потому, что жил с нею в одно время. Но потом Калягин-Шекспир вернет ее к реальности и будет говорить о том, что «сочинение пьес – серьезное дело», и о том, сколь сильно влияние театра на склонности людей и их умы». Вдруг почудится, что это булгаковский Мольер разговаривает униженно и жалко с Людовиком, королем-Солнцем. Ночь кончается, приходит к концу это странное «несвиданье под луной» и каждому пора стать снова самим собой. Великий драматург и великая королева, они в одном лишь схожи: оба знают, что ничего невозможно изменить. И несхожи тоже в одном: Елизавета так и уйдет из жизни, как сейчас со сцены, а вот пьесы Шекспира останутся: «Они пребудут в веках, ваше величество, за них не беспокойтесь», – скажет он, прощаясь. И хоть в этом не ошибется. В этом и будет заключена его главная правда, его – «собирателя пустейших пустяков». И дело лишь в том, кто является этим «собирателем».