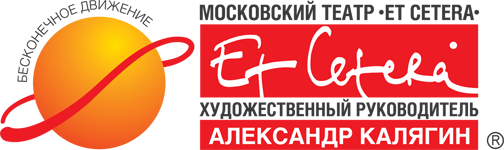16.11.2001
Мюзикл в погоне за пропиской
Ольга Рахаева ,
"Вечерний клуб"
15.11.2001
Сюжет удался
Дина Годер ,
"Еженедельный журнал"
15.11.2001
[“Marquee” Column]
John Freedman ,
"The Moscow Times"
13.11.2001
Его прекрасная леди
Юлия Рахаева ,
"Известия"
13.11.2001
Леди с большой платформы
Роман Должанский ,
"Коммерсантъ"
12.11.2001
Russian сам себе страшен
Марина Давыдова ,
"Время новостей"
15.03.2001
Здравствуйте, я ваш Калягин!
Женя Лейзен ,
"МК" в Нижнем Новгороде
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Russian сам себе страшен
Марина Давыдова
"Время новостей" ,
12.11.2001
Вот за что я люблю худрука «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана — о его спектаклях всегда легко писать. Режиссуру он понимает как придумывание театральных сюжетов, ложащихся не только поперек текста классических либретто, но и - что для оперы куда существеннее — поперек нот, и критику остается только внятно пересказать этот сюжет, сравнив его с оригиналом. В театре Et Cetera все оказалось и того проще. Сюжет за Бертмана придумала молодой, на все способный драматург Ксения Драгунская, переписавшая знаменитый мюзикл My Fair Lady в соответствии со своими представлениями о прекрасном. В основе ее текста архетипический для искусства постсоветского периода конфликт между дикой, но смекалистой Россией и цивилизованным, но глуповатым Западом. От лица нашей родины представительствует Лиза Дулина, торгующая, судя по прикиду, телом и приторговывающая в свободное от основной работы время цветами, а также ее бомжеватого вида родня. От лица Запада — английский профессор-славист Генри Хиггинс и его многочисленные ассистенты. Что по-настоящему удивляет Хиггинса при встрече с Лизой на улицах Первопрестольной, так это ее приблизительное знакомство с русской классической литературой. И в самом деле. Сложно представить себе лондонскую путану, никогда не читавшую Чосера, Милтона или на худой конец Диккенса. А вот у нас необразованные проститутки — это настоящее социальное бедствие. Еще больше поражает Хиггинса язык цветочниц. И, скажем уже безо всякой иронии, правильно поражает. Странная помесь воровской фени, подросткового арго, жаргона городских низов и сленга интеллектуальных верхов, на котором изъясняется Лиза, заставит схватиться за словарь не только иностранца-слависта, но и любого носителя русского языка, даже если он исправно посещает рынки, бары, вокзалы и общественные сортиры. Я, например, поняла не больше профессора. И вот, значит, Пигмалион-Хиггинс везет интердевочку Лизу в Лондон, предварительно спросив разрешения у ее выпивающей, закусывающей, харкающей, сморкающейся, лаптем щи хлебающей и саму себя нахваливающей родни. А там и говорит своим ассистентам: через шесть месяцев я превращу ее в настоящую леди. Глядя на Лизу, ясно понимаешь, что для превращения ее не то что в даму высшего света, а просто в человека одной лингвистики мало. Тут явно необходимо хирургическое вмешательство. И вот уже в профессоре Хиггинсе мерещится профессор Преображенский, а в его ассистентах — борментали. Особенно впечатляет то, что Лизу обучают английскому языку, посадив ее то ли в зубоврачебное, то ли в гинекологическое кресло, а одна из ассистенток профессора, миссис Пирс, ходит в белом халате и с зеркальцем на голове. Впрочем, эффектные реминисценции из «Собачьего сердца» автором явно не отрефлексированы, и в дальнейшем сюжет стремительно движется к хэппи-энду, совершив по пути не поддающиеся пересказу сюрреалистические и постмодернисткие кульбиты. Текст либретто, скажем прямо, так заборист, что режиссеру можно было бы уже и не стараться. Но он постарался. Встреча России и Запада в его спектакле напоминает встречу персонажей из «Джентльмен-шоу» с персонажами из «Деревни дураков». С нетерпением ждешь, когда же первые начнут рассказывать одесские анекдоты, а вторые не только использовать в качестве салфеток туалетную бумагу, но и лупить друг друга сковородками по головам. И где же, позволительно узнать, медведь? Так не положено, чтобы про Россию и без медведя. Напрасно г-н Бертман полагает, что массовка в стилизованных русских нарядах может заменить зооморфную эмблему нашей родины, а волапюк Лизы — все бесценное богатство российской ненормативной лексики. Иными словами, в спектакле еще есть отдельные недостатки, но в целом работа проделана большая. Особенно это касается музыкальной части. «Моя fair леди» идет в сопровождении оркестра Министерства обороны, не посаженного вопреки традиции в яму, а, напротив, болтающегося на странного вида подъемнике где-то под колосниками. Играет этот оркестр так громко, так весело, что певцов слышишь редко, а понимаешь, о чем они поют, еще реже. (На их фоне явно выделяется исполнительница главной роли Наталья Благих, чьи очевидные вокальные способности не могут заглушить даже неистовые духовые.) Совсем недавно, рецензируя мюзикл «Норд-Ост», я писала, что он больше похож на КВН. Правда, хороший КВН. Так вот «Моя fair леди» — тоже КВН, но плохой. И к мюзиклу он совсем уж никакого отношения не имеет. Мюзикл — жанр романтический. Вот, скажем, в пьесе Бернарда Шоу, чей гипсовый памятник выносят в финале на авансцену, социального пафоса много, а в сочиненной по его мотивам «Моей прекрасной леди» его вообще нет. Про любовь она. Положено так. А в России романтически не получается. В России обязательно Михаил Задорнов с сатирой, юмором и социальным пафосом из какой-нибудь щели да вылезет. Не догоняют у нас, в натуре, особенности этого жанра. Да и с чего догонять-то. В дикости живем. Туалетной бумагой рты утираем. Собственный язык выучить не можем. Шандец, одним словом. И заграница тут не поможет.