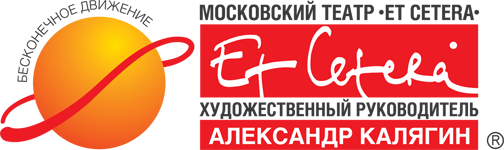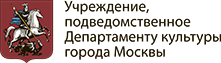14.12.2011
Поговорим о странностях смерти
Ольга Егошина ,
«Новые Известия»
30.11.2011
А Родиона Романовича не узнали
Григорий Заславский ,
«Независимая газета»
17.11.2011
«Четвертая стена» за спиной
Копылова Марина ,
«Страстной бульвар
15.11.2011
«Похождения Шипова»: лакеи начинают и выигрывают
Наталья Витвицкая ,
«Ваш досуг»
26.10.2011
«Орфей»: смерть поэта
Наталья Витвицкая ,
«Ваш досуг»
05.10.2011
«Буря»
Наталья Витвицкая ,
«Ваш досуг»
27.01.2011
ПЕЧАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ
Екатерина Дмитриевская ,
«Экран и сцена»
Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
«Четвертая стена» за спиной
Копылова Марина
«Страстной бульвар ,
17.11.2011
Я вышла из театра со смутным чувством. Есть такая практика - записывать свои ощущения и мысли сразу после спектакля... Но после «Бури» Шекспира - Р.Стуруа с Александром Калягиным в роли Просперо у меня внутри было оледенение, без мыслей, а «чувство» - настолько безысходно-депрессивное... И в то же время - невозможно возвышенное, просто до холода заоблачного. Московская реальность - метро, телефонирующие разводяще-наводящие в «пидарках» у киосков, вечные стройки на той стороне бульвара, «Макдоналдс» с его вайфаем и бесконечные «персоны на колесиках», продвигающиеся по Мясницкой туда и обратно вопреки законам живой природы, - все вдруг показалось таким мусором, что хотелось рыдать... При этом я понимала, что повод к этому - всего лишь искусственно созданная сценическая реальность, которую, как старое доброе полуторачасовое кино (и как новейшую драматургию), полтора часа мы, зрители, на одном дыхании отсмотрели и прожили в этот вечер в Московском театре «Et Сetera». Эта реальность идеально остранена и придумана: «самая загадочная пьеса Шекспира» корректно избавлена от длиннот, и все действие вдоль, поперек, по высоте и вглубь изумительно выстроено «от» и «до» пятью гениями: режиссером-постановщиком Робертом Стуруа, художником-постановщиком Георгием Алекси-Месхишвили, композитором Гией Канчели, художником по свету Глебом Фильштинским и художником по гриму Николаем Максимовым. Но внутренний раздрай от высокой красоты и безысходной печали увиденного на время захлестнул всякую способность обозначать предметы и явления словами. Осознание образа спектакля, болевых точек нашего бытия и внутренней жизни, по которым Роберт Стуруа строит свое совершенное, но по-своему страшное театральное произведение, стало проявляться через несколько дней и даже недель. Не писалось, но я позволила всему вокруг случаться, узнавания через какое-то время сами пришли по ходу жизни. Такого длинного и мучительного шлейфа мысле-чувств от соприкосновения с высоким я никогда не переживала. Не ожидала такой грусти от Роберта Стуруа... После пережитых в детстве его «Синих коней на красной траве» в солнечном, теплом сентябре 1980-го, когда второй спектакль про Владимира Ильича на гастролях Театра им. Шота Руставели (звонком сверху) отменили, а в проходной Малого театра грузинские актеры смиренно и иронично потешались над вывешенной табличкой «Актер заболел»: «Ну, он же южный человек, а Москва - такой холодный город!..» - я всю жизнь была уверена, что теплая ирония спасает южных людей от пессимизма, которым неизлечимо заражены мы, северяне. Их тепла и смирения все еще хватает, чтобы играть на площадях! «Буря» стала для меня полной неожиданностью. Из грандиозной сцены-каре открылась только традиционная центральная часть, и я поразилась странному эффекту отзеркаливания огромного вывернутого белого пространства сцены в зал. На сцене - стол и три стены - идеальный экран для кинопроекций: молний, морских волн, дождя, диких птиц. Зал смотрит на сцену, как в зеркальный трельяж, с ужасом и оцепенением. А на спецэффекты с разрывами, захлестами трехмерных масс воды, разрядами молний и действия совершенно диких персонажей - как на живую кобру, подсаженную в это подобие аквариума, где мы уже все сидим... Первый раз в жизни я ощутила «четвертую стену» не на границе сцены и зала, а у себя за спиной... Одичавший отшельник Просперо - Александр Калягин играл, как ребенок, с парусным бригом, висящим под лампочкой, отбрасывая на три белых экрана некрасивые тени, и зрители в некотором замешательстве чувствовали, что на фоне «четвертой стены» им тоже предложено как бы выбрать себе роль - быть тенью или немым «собеседником» Просперо. Быть просто зрителем в этом пространстве почему-то не получалось. Может, потому что в прологе на просцениуме нам открылся загадочный стеклянный город как бы с высоты Бога, и на этом загадочном стеклянном острове из стеклянных сосудов Ариэль (Наталья Благих), стильный, как логотип косметики «Велла», безмолвно играл волшебной палочкой, как на хрустальной гармони. Сразу - индивидуальный ассоциативный ряд: стол в корабельной кухне с «поющими» бокалами в фильме Федерико Феллини «И корабль плывет...», пробирки в баклаборатории, окно пункта приема стеклопосуды... - выбирая ассоциацию в меру своего жизненного опыта, каждый ныряет в собственное подсознание... И там благополучно остается. При этом гламурность и стильная одежда Ариэля подчеркивают его сказочность что успокаивает волнение в момент, когда зритель уже перестал быть... частью зрительного зала. Дальше «гламурность» стремительно размывалась безумным полосканием синих волн и молний в пространстве белого «террариума»: Просперо в нем страшновато «чудил» - моделировал четырехмерную реальность морского катаклизма, в котором мысленно угробит всех своих прежних мучителей и врагов. При этом верхняя граница стерильно-белых стен прозрачно намекала на истинную функцию ограниченного пространства, в котором и мы оказались. Мы ведь в реальности не замечаем границы стены и потолка, пока нам есть чем и с кем заняться. Тупые углы верхнего края белой декорации тоже не обращают на себя внимания, пока свет не полный, пока персонажи суетятся на сцене, спят, надевают халаты, заглядывают в книги, пьют вино, дерутся, влюбляются, доказывают свое превосходство. А когда человек остается один, совсем один, он как-то болезненнее ощущает границу стен и потолка и вспоминает о несвершенном в жизни, о неизжитых обидах... Тогда из области простых жизненных функций фантазия уносит его иногда в область нечеловеческой компетенции - область «судить и наказывать» большие группы людей. А это, как утверждают психологи, навлекает на Землю особый гнев Того, кто выше любых стен. В какой-то момент «Бури» и милашка Ариэль именно из-за той верхней границы стен опускается на сцену не с глазами шкодного пятилетнего ребенка или грацией юной нимфы, а в апокалиптическом облике гарпии с карающим мечом. Но ясно, что это не белые стены храма: они не требуют икон, там даже книги, где-то прилипшие сбоку, случайны, похожи на грязь. Что это за помещение? Что в нем происходит? Пространство внутри белых стен существует явно не по законам реальности, законы химии внутри него - иные, последствия желаний и действий - прямо противоположные (попадающие в это пространство черные от нехороших дел личности удивляются, как странно чисты становятся их одежды, грязь - самоочищается; Просперо хочет проклясть и уничтожить давних врагов, заманив их на этот «остров» в белых стенах, - но внезапно прощает)... Эта белая комната, в которой мы сидим, где по степени значимости может светиться стол, пол, нарисованное на стене окно, мысленно очерченный вокруг себя человеком круг одиночества; дверь в другое, неизвестное нам помещение на противоположной стене, откуда приходит иногда дочь Миранда и куда самому «магу» Просперо почему-то доступа нет, - это замкнутое помещение, единственное убранство которого - стерильные пузырьки на подоконнике, напольная вешалка со старым халатом в углу, писсуар на одной стене и принципиально на противоположной - умывальник. Еще какое-то время не хочется верить, что ты - в одиночной палате. А остальное - всё, что движется и звучит, боится и угрожает, - это плод воображения Просперо, его видения, воспоминания, неизжитые обиды, гнев, досада на предательство и обман, обида за изувеченную жизнь, за убитую любовь, за одиночество... И это чудовищно точная и жесткая «игра угасания», которая, не знаю, какими душевными силами дается гениальному актеру в роли Просперо, - настолько достоверна и трагична, что рядом с ней все словесные упоминания героя о волшебстве, магии, чудесах, власти над тем или этим - детский лепет, допустим, даже бывшего «законного герцога Миланского», несправедливо отогнанного от социальной кормушки (таким герой заявлен в тексте пьесы Шекспира). Но в этом безвозвратном «угасании» в сущности очень возвышенной и одаренной личности и души Режиссер и Актер зацепили боль и тревожность сегодняшнего времени. За что? За жизнь. За уникальность памяти... Они подняли героя (явно не нашего времени) и главное событие спектакля - работу частной памяти и души - на внеисторический, духовный уровень: все происходящее перед нами - это видения души человека, проживающего агонию перед выходом из земного мира. А два дня, после которых Просперо обещает освободить своего единственного друга-слугу-духа, - это время, необходимое для последней и главной работы Души - для прощения, полного осознания реальности и забвения, без которых выход из «белой комнаты» невозможен. Актер проживает эти два дня за полтора часа. А мы, зрители, невольно и жестоко присутствуем при этом интимном процессе, не смея не верить - и в то же время верить в его достоверность! Мы изо всех сил убеждаем себя, что это всего лишь гениальная игра гениального Актера (потому так легче переносить, не применяя к себе). Но интерактивность заданного пространства никому не дает уйти в тень (лично у меня было ощущение, что я сидела весь спектакль напротив Александра Калягина Просперо на расстоянии вытянутой руки, хотя между нами было несколько рядов партера), в нем защититься от сопереживания герою - невозможно. Потому что... в какой-то момент ставишь себя на место героя. Вплоть до того, что повторяешь его движения! Я потом все думала: ну почему это так задевает? Просто вешает душу на крюк? Идеально выстроенный текст с современными интонациями, мелодикой, фонетикой (верхняя губа слегка, по-женски поджата). Вдруг переходящий в скрипение, шуршание старых фолиантов, сухого песка - на голосовых связках? Может быть, секрет в достоверности дыхания Актера: одышка крупного человека, добежавшего до двадцать восьмого этажа, переходящая через минуту в сладкое сопенье мальчика, сдирающего фантик с конфеты? Или секрет - в глазах? Вот им никакого дела до присутствующих, в них только детский восторг и жажда обладания: буря «получилась!», кораблик, такой красивый, летит черт-те куда по воле рук всесильного рассерженного мага и волшебника - Просперо носится с этим корабликом с блаженной улыбкой на лице по сцене, буря давно приобрела масштабы вселенского бедствия, а он все машет руками! И эти же глаза полны невысказанной нежности при встрече с Ариэлем: мужская это нежность или отцовская? В лице Просперо читается каждый виток иллюзий. В какой-то момент он понимает, что вся жизнь - иллюзии, это как стук в дверь где-то внутри, тогда глаза становятся скучными, взгляд начинает «плавать», потухать, переворачивается куда-то внутрь... Но, получив от Ариэля последний подарок в блестящем фантике, Просперо вдруг взрослеет: «детство», с его наивной придурью и хитростью, уходит и из движений, и из глаз; большое красивое лицо, отертое от нелепого белого порошка, обретает прямой, внимательный, целенаправленный взгляд. Который, если его направляют на тебя, наверно, и заставляет плакать. Или жить как-то ярче и правильнее. Городить виселицы для врагов - жизни не хватит, оставим этот суд Всевышнему! - как бы говорят авторы этого изысканно страшного, но ироничного спектакля. «Ирония в агонии», без черного юмора и кича - это, наверно, и есть культурное остранение, которое, когда мир рушится, спасает психику целых народов. В «Буре» Стуруа эта ирония как легкое дуновение ветра, баланс на грани адекватности и неадекватности поступков. А в результате все зрители, находящиеся в пространстве белых стен, уже не могут с уверенностью сказать, что они не пили из общей чаши иллюзий. И не были на этой мессе раскаяния... Говорят, великие произведения и великие художники рождаются именно из тягот и печали, ибо, как сказал Роберт Стуруа в одном из интервью, «грузины наиболее остро ощущают свою смертность». Ну, не только... Итальянцы тоже всю жизнь под Этной... Но Феллини - один, Пазолини - один, Лукино Висконти, et cetera... А чужая печаль обычно не вызывает интереса. Это счастье - что есть театр. Как пространство внимания и переживания. И человек, и художник, который способен правильно выстроить этот процесс. Нам повезло, что в Москве есть театр, в котором режиссер с божественным уровнем мышления из далекой теплой Грузии может создать некое действие, позитивно направляющее мысли больших зрительских аудиторий! И здорово, что в этом театре есть, кажется, абсолютно все, чтобы будить и поражать воображение зрителя: очертить мечом светящийся магический круг, летать над сценой без крыльев, как летают влюбленные Миранда (Ольга Котельникова) и Фердинанд (Сергей Давыдов, Василий Симонов), поиграть на нервах зрителя жутко смешными в их достоверности отрезанными человеческими конечностями, преподнесенными Просперо врагам в качестве угощения. Эти обрезки на длинном больничном столе на колесиках въезжают из освещенного коридора в полутемную «палату» Просперо, кажется, даже пахнут кровью и йодом, хотя убеждаешь себя, что они резиновые, но - воображение успевает перенести нас в морг, где кромсают покойников. Такие впечатляющие «улеты сознания» требуют немедленной адекватной иронии, и она осуществляется через актерскую игру. Актеры старательно играют в сумасшедших: несут чушь, не узнают друг друга, один, схватив резиновую ногу, начинает жадно поедать ее от колена к стопе... (Чем не дантов «Ад»?). Но все эти жуткости в раскатах грома и электрических молниях в духе опытов Николо Теслы, с проецируемыми на белые стены кровавыми пожарами и виселицами, - они же ненастоящие! Откуда это ощущение? Не показалось ли мне, что игра всех героев «второго плана» несколько притушена в присутствии Мастера? Или таков режиссерский замысел? Я решила, что в произведении совершенном не может быть случайных ходов. И это чувство ненастоящности - естественно и оправдано, если все происходит в сознании Просперо и мы видим все как бы глазами его души. Есть такое облегчающее жизнь детское убеждение, что все страшное - сон, или, в лучшем случае, «театр», что это - не с нами, а с кем-то... В «Буре» это убеждение подтверждается легким представленческим шутовством, схематичностью в актерской манере игры всех персонажей «второго» и «третьего» плана. Роберт Стуруа как бы отодвигает их, потом выдвигает некоторых светом (Миранда, Фердинанд), Ариэль - материален, чувствен, театрален, но непредсказуем, почти не говорит и как бы все время вылетает из поля зрения, как стрелка за экран компьютера. Режиссер делает «ненастоящими» всех, кроме самого Просперо, усугубляя его фатальное одиночество. Роскошный и чистенький Себастьян, брат короля Неаполя (Кирилл Лоскутов); жуткий, как засушенная и ожившая мумия, маньяк-диктатор Алонзо, король Неаполитанский (Вячеслав Захаров), въезжающий на сцену на руках своих подчиненных на обломке корабля; придворные; преступники Тринкуло и Стефано (Андрей Кондаков и Алексей Осипов); даже яркий в своем скотстве и лохмотьях Калибан с мордой, расписанной под рыбу или оскаленную собаку (Владимир Скворцов); слуги в серых пиджаках; даже гламурные Фердинанд и Миранда - все «ненастоящие»... Просперо - большой, грузный, такой подробный, чувствующий, - один «настоящий». И безумно трогательный, как маленький ребенок, которого взрослые поставили перед выбором, а он не знает, что там, впереди, экая куча этих «выборов» еще будет, для него есть только этот момент выбора и он сам. И когда он выбирает «простить» - все зрители в полной уверенности, что теперь все будет хорошо! Но вдруг постановщик задает и жестокий вопрос залу: «А что это такое - «все»? В нашей компетенции решать, каким «все» будет? И будет ли вообще?» Веселый Ариэль, улетая, дарит старику красивую коробочку в блестящей бумажке, с ленточкой (в контексте всех ужасов, похожей на бикфордов шнур). На минуту Просперо так дорожит этим несбывшимся в детстве подарком, с таким восторгом и радостью разворачивает его!.. А в коробочке - пыль, какой-то белый порошок. Это удар прямо в сердце. ...При нечаянном вздохе разочарования он облепляет лицо и на минуту делает его нелепым и некрасивым, как маска... Дышать невозможно, и пока мгновение актер обтирает лицо, весь зал ... не дышит...