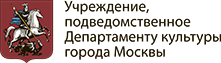Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
В начале конца
Павел Руднев
Петербургский театральный журнал ,
17.12.2019
Спектакль Михаила Бычкова в московском театре «Et Сetera» встраивается в галерею работ последних лет, в которых режиссеры пытаются разобраться с драматургией советских 1920-х. Их авторы, захваченные вихрем революции, максимально поляризуют общество и пока еще могут дать голос «врагу» — оппозиционеру советской власти. Советские пьесы защищали, разумеется, позицию выигравшей стороны. А свойство театра — перемонтаж, трактовка. Действуя одной только интонацией, спектакль способен предоставить право на высказывание любой из сторон. Сегодня, когда проблема выигрыша и проигрыша во всем XX веке — вещь спорная, театр встает на защиту проигравших. Тем более что пьеса украинского драматурга Миколы Кулиша — одного из жертв сталинизма — написана амбивалентно, максимально широкоохватно. Здесь заметны сатирические интонации в сторону мещанской украино-еврейской среды маленького города внутри бывшей черты оседлости. Но режиссеру Михаилу Бычкову не нужно было сильно пьесу сокращать или менять ее текст, чтобы поставить спектакль о защите частной жизни и права на неучастие в историческом катаклизме.
Семья Савватия Савельевича Гуски — жена, семь дочерей и няня. У всех — старозаветные имена из святцев. Художник Николай Симонов изображает в первой сцене их дом: кирпичная кладка, отдельный вход, козырек над ним, балкончик — милая, нежная, соразмерная человеку архитектура небольшого особняка, столь характерная для южной России и Малороссии. Для кого-то — признак мещанского быта, для кого-то — недостижимые сегодня спокойствие и гармония, обособленность, сепаратность существования. Нет сомнений, Гуска — мещанин, из тех, которых Ленин и Горький называли «мелкобуржуазными собственниками», «зоологическими индивидуалистами», ужами, которые никогда не захотят взлететь соколом и ощутить свободу революционного порыва.
Этот дом, эта завалинка-лавочка перед домом, эта окруженность галдящим, чего уж тут говорить — глуповатым бабьим царством — все это делает семью Гуски «якорем», несдвигаемым шкафом, пузатой мебелью, неподъемной, неспособной на бунт и социальный переворот. Этим людям есть что терять — не в смысле ценностей или какой-то невероятной недвижимости, а в смысле неподъемности их быта, обремененности семейными обязательствами. Глеб Чумалов в «Цементе» Гладкова может отремонтировать завод ценой потери собственного ребенка, а Гуска — нет. Когда я смотрел спектакль, вспоминал и поныне существующий домик в Сергиевом Посаде, который нашел для семьи Василия Розанова священник Павел Флоренский — рядом с церковью, где служил. Бежавший от революции Розанов, обремененный заботами о больной супруге и целом выводке детей, понял, что вдали от некогда респектабельного Санкт-Петербурга, в спартанских условиях едва ли не ссылки его девочки оказались белоручками, неприспособленными, неактивными, зависящими только от отца и его труда.
Таким человеком — который не может палец о палец ударить, так как скован по рукам и ногам повисшей на нем семьей, — играет Гуску Игорь Золотовицкий.
Завязка — в ритуале встречи папеньки. Вышагивает он из левой кулисы медленно, как погонщик мула с базара, где все распродал. Пальто распахнуто, волосы всклокочены, зеленая шляпа чуть меньше головы — пожалуй, это единственное, что есть в Савватии Савельевиче бунтарского. Садится тяжело, устало на лавку и тут же обрастает, как добрый клоун в цирке, кучей своих девочек — они вьются, галдят, требуют внимания и опеки. Он загребает их в охапку, становясь скульптурным портретом на тему семейного блаженства. Нет, это не альфа-самец, это отец семейства, крупный, массивный, мегалитический — защита и опора родового гнезда. Он прекрасно плотояден — но уже не как забияка Пантагрюэль, а как Гаргантюа, принявший на себя ответственность отцовства. В нем невозможно отыскать никакого порока, кроме желания жить, наслаждаясь покоем, жить в «желе», как это было в его прошлом, в «первобытном тишайшем цимесе». А, собственно, о чем еще может мечтать и чего может хотеть мужчина, обремененный таким семейством? Явно не потрясений.
Не стоит обольщаться: Гуска глуп и одномерен. В его голове нет артикулированных речей «за» или «против» советской власти. Он не способен на конфликт. Он труслив и опаслив, или вот еще хорошее слово из Библии: богобоязнен. Не бунтарь, не оппозиционер, не диссидент — обыкновенный рядовой человек, имеющий право защищать собственную семью. Искренне не понимает, почему и за какие грехи его стали именовать «товарищем». Оппозиционна и, по крайней мере, подозрительна его одежда: пиджак и брюки в совершенно контрреволюционную полоску. Гуска инертен, и единственное, что просит он от советской власти — обеспечить дочкам пропитание, тепло и кров. Для него любая власть опасна — та, что лишает его стабильности и пытается сделать Иовом, к участи которого Гуска явно не готов.
Единственная его вина, которую можно обнаружить, это нежелание знать, что «в мире есть столько ужасно одетых людей» и что кто-то «триста лет босым ходил». Раз кормит восьмерых — вероятно, имеет право.
Здесь говорят округло, нежным, ласкательным языком украино-еврейского поместья: «кралечка», «ласточка», «павличка», «дочковал». Любую лютую пору воспринимают, как ливень, как грозу. Гуска желает заменить пятиконечную звезду рождественской. Он — лежачий камень, он неспособен меняться и поэтому не верит в классовую борьбу, поражая нас простой и очень христианской фразой: «На земле, прежде всего, живут люди, и только потом уже они товарищи и господа».
Ясно, о чем в 1925 году желал заявить Микола Кулиш: социальная сатира направлена на паникерство таких людей, как Гуска. Действительно, в религиозной благочинной среде, в среде сибаритствующих кумушек и посиделок на завалинке плодятся бесчисленные страхи и неврозы. Игорь Золотовицкий играет человека, издерганного чувством постоянной опасности, — это его бессознательное, он сравнивает себя с «серенькой мышкой», боящейся кота из всех четырех углов. Так и его супруга Секлетея Семеновна (Анжела Белянская) слишком активно расстраивается из-за случайно разбившегося зеркала. Гуска должен сгинуть как рассадник паникерских настроений, новому времени требуются определенность и бодрость существования.
Наверное, рано или поздно Гуска стал бы покладистым и покорным: воевать он не умеет, силен инстинкт самосохранения, этот герой врос в землю, его не сдвинуть. И он уже начал поиск аргументов — Золотовицкий показывает, как язык боязливого героя ищет пригодную новой власти формулу, удовлетворяющий ее отзыв: «Дед мой, между прочим, биндюжником был, а бабка на базаре яблоками торговала и всенародно старшего городового избила». Он знает, как угодить.
Семья Гуски смешная, но спектакль организован так, что никто не смеется над этими смешными людьми. Публика отчетливо понимает, куда ведет судьба старорежимную семью. Девушки попеременно падают в обморок — и это оказывается в спектакле предвестием будущего расстрела семейства в духе трагедии в Ипатьевском доме. Свойство диктатуры — не позволять человеку не определиться. По сути, в желании Гуски бежать от государственной «заботы» на блаженный необитаемый остров в запорожских плавнях нет ничего скверного. Но в условиях диктатуры нет возможности не быть ни советским, ни антисоветским, выбирать путь постороннего, путь невмешательства, бесконфликтности. Революция требует соучастия, вовлеченности, однопартийности.
Развернутый на сцене особняк Гуски, демонстрирующий свое «исподнее», соблазняющий нас теплой желтоватой свежевыструганной древесиной, художник Николай Симонов обеспечивает тяжелыми веслами, и дом, поскрипывая, уплывает к арьеру. Во втором акте семья обнаруживает себя на острове, где Симонов высадил борщевики — вроде бы, дикие и красивые, а на самом деле сигнализирующие о ядовитой западне.
Спектакль, как и пьеса, организован монологично: близкие Гуске люди здесь должны в лучшем случае «играть короля», в худшем — формировать шумливую, галдящую толпу. Невозможно, конечно же, не говорить о том, что когда — крайне редко — премьер Игорь Золотовицкий покидает площадку, то зрительский интерес моментально пропадает. Это обстоятельство, разумеется, повышает «цену» актерскому совершенству, округлости игры Золотовицкого, но все же спектакль, к сожалению, не сосредоточился на разработке малых ролей. Правда, неяркость окружения Гуски тут только усугубляет его драму, работает на порождение в нем страхов и неврозов по поводу участи своей семьи, своего «семисвечника». Отеческая, защитническая позиция здесь выпячена, оказывается гипертрофированной ответственностью, которую даже такой могучий отец не способен обеспечить.
Спектакль, как уже было сказано, заканчивается совсем не так, как написано у Кулиша: вместо препровождения Гуски в ЧК его с семьей расстреливают — шуточно, из пальцев — два «рыбака» в штатском. Скатывается, как в фильме Эйзенштейна, по лесенке одинокая коляска, и на зеркало сцены наползает режиссерская (или, скорее, сценографическая) ремарка — в виде надписи на занавесе: «Начало».
Вместо конца — начало. Мысль ясна и плакатна, и, в сущности, очень коррелирует с сегодняшней ситуацией. Репрессивность первых лет советской власти — начало процессов истребления людей, которые нам так хорошо известны по политическим событиям XX и XXI веков. Человек по-прежнему не в центре цивилизации, не является приоритетом власти. Ценность человеческой жизни, интересов, семейных добродетелей, частной собственности — неочевидна и чаще всего попирается вплоть до сегодняшнего дня. Спектакль Михаила Бычкова обнаруживает источник этого порока. Тут начинается нечеловекоцентричная цивилизация.
Семья Савватия Савельевича Гуски — жена, семь дочерей и няня. У всех — старозаветные имена из святцев. Художник Николай Симонов изображает в первой сцене их дом: кирпичная кладка, отдельный вход, козырек над ним, балкончик — милая, нежная, соразмерная человеку архитектура небольшого особняка, столь характерная для южной России и Малороссии. Для кого-то — признак мещанского быта, для кого-то — недостижимые сегодня спокойствие и гармония, обособленность, сепаратность существования. Нет сомнений, Гуска — мещанин, из тех, которых Ленин и Горький называли «мелкобуржуазными собственниками», «зоологическими индивидуалистами», ужами, которые никогда не захотят взлететь соколом и ощутить свободу революционного порыва.
Этот дом, эта завалинка-лавочка перед домом, эта окруженность галдящим, чего уж тут говорить — глуповатым бабьим царством — все это делает семью Гуски «якорем», несдвигаемым шкафом, пузатой мебелью, неподъемной, неспособной на бунт и социальный переворот. Этим людям есть что терять — не в смысле ценностей или какой-то невероятной недвижимости, а в смысле неподъемности их быта, обремененности семейными обязательствами. Глеб Чумалов в «Цементе» Гладкова может отремонтировать завод ценой потери собственного ребенка, а Гуска — нет. Когда я смотрел спектакль, вспоминал и поныне существующий домик в Сергиевом Посаде, который нашел для семьи Василия Розанова священник Павел Флоренский — рядом с церковью, где служил. Бежавший от революции Розанов, обремененный заботами о больной супруге и целом выводке детей, понял, что вдали от некогда респектабельного Санкт-Петербурга, в спартанских условиях едва ли не ссылки его девочки оказались белоручками, неприспособленными, неактивными, зависящими только от отца и его труда.
Таким человеком — который не может палец о палец ударить, так как скован по рукам и ногам повисшей на нем семьей, — играет Гуску Игорь Золотовицкий.
Завязка — в ритуале встречи папеньки. Вышагивает он из левой кулисы медленно, как погонщик мула с базара, где все распродал. Пальто распахнуто, волосы всклокочены, зеленая шляпа чуть меньше головы — пожалуй, это единственное, что есть в Савватии Савельевиче бунтарского. Садится тяжело, устало на лавку и тут же обрастает, как добрый клоун в цирке, кучей своих девочек — они вьются, галдят, требуют внимания и опеки. Он загребает их в охапку, становясь скульптурным портретом на тему семейного блаженства. Нет, это не альфа-самец, это отец семейства, крупный, массивный, мегалитический — защита и опора родового гнезда. Он прекрасно плотояден — но уже не как забияка Пантагрюэль, а как Гаргантюа, принявший на себя ответственность отцовства. В нем невозможно отыскать никакого порока, кроме желания жить, наслаждаясь покоем, жить в «желе», как это было в его прошлом, в «первобытном тишайшем цимесе». А, собственно, о чем еще может мечтать и чего может хотеть мужчина, обремененный таким семейством? Явно не потрясений.
Не стоит обольщаться: Гуска глуп и одномерен. В его голове нет артикулированных речей «за» или «против» советской власти. Он не способен на конфликт. Он труслив и опаслив, или вот еще хорошее слово из Библии: богобоязнен. Не бунтарь, не оппозиционер, не диссидент — обыкновенный рядовой человек, имеющий право защищать собственную семью. Искренне не понимает, почему и за какие грехи его стали именовать «товарищем». Оппозиционна и, по крайней мере, подозрительна его одежда: пиджак и брюки в совершенно контрреволюционную полоску. Гуска инертен, и единственное, что просит он от советской власти — обеспечить дочкам пропитание, тепло и кров. Для него любая власть опасна — та, что лишает его стабильности и пытается сделать Иовом, к участи которого Гуска явно не готов.
Единственная его вина, которую можно обнаружить, это нежелание знать, что «в мире есть столько ужасно одетых людей» и что кто-то «триста лет босым ходил». Раз кормит восьмерых — вероятно, имеет право.
Здесь говорят округло, нежным, ласкательным языком украино-еврейского поместья: «кралечка», «ласточка», «павличка», «дочковал». Любую лютую пору воспринимают, как ливень, как грозу. Гуска желает заменить пятиконечную звезду рождественской. Он — лежачий камень, он неспособен меняться и поэтому не верит в классовую борьбу, поражая нас простой и очень христианской фразой: «На земле, прежде всего, живут люди, и только потом уже они товарищи и господа».
Ясно, о чем в 1925 году желал заявить Микола Кулиш: социальная сатира направлена на паникерство таких людей, как Гуска. Действительно, в религиозной благочинной среде, в среде сибаритствующих кумушек и посиделок на завалинке плодятся бесчисленные страхи и неврозы. Игорь Золотовицкий играет человека, издерганного чувством постоянной опасности, — это его бессознательное, он сравнивает себя с «серенькой мышкой», боящейся кота из всех четырех углов. Так и его супруга Секлетея Семеновна (Анжела Белянская) слишком активно расстраивается из-за случайно разбившегося зеркала. Гуска должен сгинуть как рассадник паникерских настроений, новому времени требуются определенность и бодрость существования.
Наверное, рано или поздно Гуска стал бы покладистым и покорным: воевать он не умеет, силен инстинкт самосохранения, этот герой врос в землю, его не сдвинуть. И он уже начал поиск аргументов — Золотовицкий показывает, как язык боязливого героя ищет пригодную новой власти формулу, удовлетворяющий ее отзыв: «Дед мой, между прочим, биндюжником был, а бабка на базаре яблоками торговала и всенародно старшего городового избила». Он знает, как угодить.
Семья Гуски смешная, но спектакль организован так, что никто не смеется над этими смешными людьми. Публика отчетливо понимает, куда ведет судьба старорежимную семью. Девушки попеременно падают в обморок — и это оказывается в спектакле предвестием будущего расстрела семейства в духе трагедии в Ипатьевском доме. Свойство диктатуры — не позволять человеку не определиться. По сути, в желании Гуски бежать от государственной «заботы» на блаженный необитаемый остров в запорожских плавнях нет ничего скверного. Но в условиях диктатуры нет возможности не быть ни советским, ни антисоветским, выбирать путь постороннего, путь невмешательства, бесконфликтности. Революция требует соучастия, вовлеченности, однопартийности.
Развернутый на сцене особняк Гуски, демонстрирующий свое «исподнее», соблазняющий нас теплой желтоватой свежевыструганной древесиной, художник Николай Симонов обеспечивает тяжелыми веслами, и дом, поскрипывая, уплывает к арьеру. Во втором акте семья обнаруживает себя на острове, где Симонов высадил борщевики — вроде бы, дикие и красивые, а на самом деле сигнализирующие о ядовитой западне.
Спектакль, как и пьеса, организован монологично: близкие Гуске люди здесь должны в лучшем случае «играть короля», в худшем — формировать шумливую, галдящую толпу. Невозможно, конечно же, не говорить о том, что когда — крайне редко — премьер Игорь Золотовицкий покидает площадку, то зрительский интерес моментально пропадает. Это обстоятельство, разумеется, повышает «цену» актерскому совершенству, округлости игры Золотовицкого, но все же спектакль, к сожалению, не сосредоточился на разработке малых ролей. Правда, неяркость окружения Гуски тут только усугубляет его драму, работает на порождение в нем страхов и неврозов по поводу участи своей семьи, своего «семисвечника». Отеческая, защитническая позиция здесь выпячена, оказывается гипертрофированной ответственностью, которую даже такой могучий отец не способен обеспечить.
Спектакль, как уже было сказано, заканчивается совсем не так, как написано у Кулиша: вместо препровождения Гуски в ЧК его с семьей расстреливают — шуточно, из пальцев — два «рыбака» в штатском. Скатывается, как в фильме Эйзенштейна, по лесенке одинокая коляска, и на зеркало сцены наползает режиссерская (или, скорее, сценографическая) ремарка — в виде надписи на занавесе: «Начало».
Вместо конца — начало. Мысль ясна и плакатна, и, в сущности, очень коррелирует с сегодняшней ситуацией. Репрессивность первых лет советской власти — начало процессов истребления людей, которые нам так хорошо известны по политическим событиям XX и XXI веков. Человек по-прежнему не в центре цивилизации, не является приоритетом власти. Ценность человеческой жизни, интересов, семейных добродетелей, частной собственности — неочевидна и чаще всего попирается вплоть до сегодняшнего дня. Спектакль Михаила Бычкова обнаруживает источник этого порока. Тут начинается нечеловекоцентричная цивилизация.