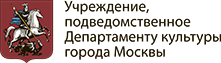Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Последний день города N: Как пьесу Гоголя «Ревизор» превратили в «Карточный домик»
Анна Гордеева
Lenta.ru ,
06.06.2017
Александр Калягин сыграл Хлестакова в своем театре Et Cetera. Хлестакову 23; Калягину только что исполнилось 75. Премьера — подарок к юбилею от старого друга артиста, режиссера Роберта Стуруа. «Ревизор. Версия» стал одним из самых ярких спектаклей этого сезона.
Ну признайтесь же — страшно идти в театр, когда почтенный худрук выбрал себе такую роль. Воображение сразу рисует мэтра, оштукатурившего лицо и изображающего юнца, а многолетние его поклонники в зале не знают, куда девать глаза. Но руководитель Союза театральных деятелей, политик и дипломат Калягин — прежде всего первоклассный актер, в здравом уме и твердой памяти. И он вовсе не играет 23-летнего «фитюльку». В спектакле Стуруа Хлестаков старше, а не младше Калягина. Режиссер решительно выбросил из гоголевской пьесы все упоминания о возрасте героя, и Хлестаков появляется на сцене… в инвалидном кресле. Он не просто немолодой человек — он совсем стар. И эту старость Калягин играет в деталях, в подробностях, в мелочах, предъявляя то актерское мастерство, что вырастает из ремесла. Эту роль Калягина можно сразу вносить в учебники — вот так надо играть возраст.
Как вздрагивают руки; как человек засыпает прямо во время бурного разговора; как смешиваются в интонации тоска и смирение («Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия» — это не решительный штурм Марьи Антоновны, как у Гоголя, а утверждение: все, уже физически не могу и давно знаю это, а счастливым так хотелось бы быть). В Хлестакове Калягина нет никакого лихачества, и «сцена вранья», где герой обычно болтает быстро, легко, вдохновенно, здесь становится мечтами бедного человека, которому никогда не быть богатым. Жизнь прошла; в ней не было никаких высоких должностей, и министры, понятно, никогда не клубились у старика в приемной. Этот Хлестаков не проигрывался в карты, он изначально очень небогат, и в сцене, где герой жалуется, что голоден, а трактирщик не дает ему обедать из-за долгов, героя жалко до слез: ведь если жалуется на голодуху 23-летний парень, это можно воспринимать с усмешкой — мол, иди поработай, а если человек в инвалидном кресле — то нет. И вот эту бедность Калягин воссоздает в каждом штрихе, в каждом движении. В этом Хлестакове звучит совсем другой Гоголь — тот, в котором мечтавший лишь о новой шинели герой спрашивал «За что вы меня обижаете?».
Но и такого героя Городничий без сомнений воспринимает как «инкогнито из Петербурга». Почему? Потому что вообще-то весь спектакль — об ожидании апокалипсиса, и почему бы одним из его вестников не стать этому старику, который кажется таким простодушным.
Декорация, придуманная Александром Боровским, не имеет ничего общего с российским уездным городком. Темная сценическая коробка с пустыми проемами напоминает о Колизее — о скелете любого театра в мире. Это очень неуютное пространство, в котором и мебели никакой нет — никто не присядет (кроме Хлестакова в его кресле), все на ногах, все готовы сорваться и куда-нибудь побежать. Уездные чиновники неотличимы друг от друга — неважно, кто там за чем надзирает, они проговаривают крохи своего текста и толпятся, дрожат, пугаются. Кроме Хлестакова на сцене есть еще лишь один ярко сделанный герой — Городничий. И вскоре мы начинаем понимать, что все происходящее — его кошмар.
Он живет в ожидании ревизии. В ожидании тайного визита, который встряхнет и сломает планы, лишит всего, ради чего он изворачивался, мухлевал и (возможно) убивал. Да, сделанный Владимиром Скворцовым городничий таков: цепкий, решительный, властный, он чем-то напоминает Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик», прошедшего к президентскому креслу по трупам. У Гоголя городничий — «постаревший на службе и неглупый по-своему человек»; в любом случае понятно, что этот городок — вершина его карьеры, дальше он продвинуться и не мечтал. В спектакле Стуруа он честолюбец, явно желающий большего и рассматривающий, так сказать, свой округ для более высокого старта. Ревизия может быть помехой, и нерв, который трясет городничего, — это нерв срывающегося (допустим) будущего президентства, а не расплаты за мелкое (в масштабах государства) прошлое взяточничество.
В спектакле так и не объясняется до конца, был ли в реальности этот старик в инвалидном кресле или он лишь привиделся городничему, получившему «инсайд» из Петербурга, что к нему едет ревизор. В этой поэме — ожидание высшего суда, где за ажурной стеной шарашат молнии, где то и дело искрят и гаснут люстры, где городничему мерещится, что он стреляет в ревизора, важен лишь страх, в котором живет городничий и все его подчиненные. Он реален; все остальное — призраки, морок. И сцена, в которой руководитель города получает сообщение о том, что таки приехал настоящий ревизор, ситуации не проясняет: в роли этого ревизора выходит тоже Калягин. Уже без всяких там инвалидных колясок, вполне бодрый и солидный при этом шаг, пугающая короткая ухмылка. Еще одно видение окончательно свихнувшегося бедняги городничего? Или реальность, что проще и жестче фантазий о слабосильном посланце высшего суда? «Немая сцена», в которой, как положено, все уездные обитатели замирают в позах, выражающих крайнее изумление и отчаяние, напоминает «Последний день Помпеи»: все жесты (мольбы, защиты, ужаса) обращены к небесам. Возможно, только на небеса и надеется Стуруа, только они и способны навести порядок в маленьком городке, из которого «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь».
Ну признайтесь же — страшно идти в театр, когда почтенный худрук выбрал себе такую роль. Воображение сразу рисует мэтра, оштукатурившего лицо и изображающего юнца, а многолетние его поклонники в зале не знают, куда девать глаза. Но руководитель Союза театральных деятелей, политик и дипломат Калягин — прежде всего первоклассный актер, в здравом уме и твердой памяти. И он вовсе не играет 23-летнего «фитюльку». В спектакле Стуруа Хлестаков старше, а не младше Калягина. Режиссер решительно выбросил из гоголевской пьесы все упоминания о возрасте героя, и Хлестаков появляется на сцене… в инвалидном кресле. Он не просто немолодой человек — он совсем стар. И эту старость Калягин играет в деталях, в подробностях, в мелочах, предъявляя то актерское мастерство, что вырастает из ремесла. Эту роль Калягина можно сразу вносить в учебники — вот так надо играть возраст.
Как вздрагивают руки; как человек засыпает прямо во время бурного разговора; как смешиваются в интонации тоска и смирение («Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия» — это не решительный штурм Марьи Антоновны, как у Гоголя, а утверждение: все, уже физически не могу и давно знаю это, а счастливым так хотелось бы быть). В Хлестакове Калягина нет никакого лихачества, и «сцена вранья», где герой обычно болтает быстро, легко, вдохновенно, здесь становится мечтами бедного человека, которому никогда не быть богатым. Жизнь прошла; в ней не было никаких высоких должностей, и министры, понятно, никогда не клубились у старика в приемной. Этот Хлестаков не проигрывался в карты, он изначально очень небогат, и в сцене, где герой жалуется, что голоден, а трактирщик не дает ему обедать из-за долгов, героя жалко до слез: ведь если жалуется на голодуху 23-летний парень, это можно воспринимать с усмешкой — мол, иди поработай, а если человек в инвалидном кресле — то нет. И вот эту бедность Калягин воссоздает в каждом штрихе, в каждом движении. В этом Хлестакове звучит совсем другой Гоголь — тот, в котором мечтавший лишь о новой шинели герой спрашивал «За что вы меня обижаете?».
Но и такого героя Городничий без сомнений воспринимает как «инкогнито из Петербурга». Почему? Потому что вообще-то весь спектакль — об ожидании апокалипсиса, и почему бы одним из его вестников не стать этому старику, который кажется таким простодушным.
Декорация, придуманная Александром Боровским, не имеет ничего общего с российским уездным городком. Темная сценическая коробка с пустыми проемами напоминает о Колизее — о скелете любого театра в мире. Это очень неуютное пространство, в котором и мебели никакой нет — никто не присядет (кроме Хлестакова в его кресле), все на ногах, все готовы сорваться и куда-нибудь побежать. Уездные чиновники неотличимы друг от друга — неважно, кто там за чем надзирает, они проговаривают крохи своего текста и толпятся, дрожат, пугаются. Кроме Хлестакова на сцене есть еще лишь один ярко сделанный герой — Городничий. И вскоре мы начинаем понимать, что все происходящее — его кошмар.
Он живет в ожидании ревизии. В ожидании тайного визита, который встряхнет и сломает планы, лишит всего, ради чего он изворачивался, мухлевал и (возможно) убивал. Да, сделанный Владимиром Скворцовым городничий таков: цепкий, решительный, властный, он чем-то напоминает Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик», прошедшего к президентскому креслу по трупам. У Гоголя городничий — «постаревший на службе и неглупый по-своему человек»; в любом случае понятно, что этот городок — вершина его карьеры, дальше он продвинуться и не мечтал. В спектакле Стуруа он честолюбец, явно желающий большего и рассматривающий, так сказать, свой округ для более высокого старта. Ревизия может быть помехой, и нерв, который трясет городничего, — это нерв срывающегося (допустим) будущего президентства, а не расплаты за мелкое (в масштабах государства) прошлое взяточничество.
В спектакле так и не объясняется до конца, был ли в реальности этот старик в инвалидном кресле или он лишь привиделся городничему, получившему «инсайд» из Петербурга, что к нему едет ревизор. В этой поэме — ожидание высшего суда, где за ажурной стеной шарашат молнии, где то и дело искрят и гаснут люстры, где городничему мерещится, что он стреляет в ревизора, важен лишь страх, в котором живет городничий и все его подчиненные. Он реален; все остальное — призраки, морок. И сцена, в которой руководитель города получает сообщение о том, что таки приехал настоящий ревизор, ситуации не проясняет: в роли этого ревизора выходит тоже Калягин. Уже без всяких там инвалидных колясок, вполне бодрый и солидный при этом шаг, пугающая короткая ухмылка. Еще одно видение окончательно свихнувшегося бедняги городничего? Или реальность, что проще и жестче фантазий о слабосильном посланце высшего суда? «Немая сцена», в которой, как положено, все уездные обитатели замирают в позах, выражающих крайнее изумление и отчаяние, напоминает «Последний день Помпеи»: все жесты (мольбы, защиты, ужаса) обращены к небесам. Возможно, только на небеса и надеется Стуруа, только они и способны навести порядок в маленьком городке, из которого «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь».