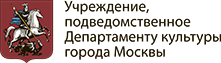Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
…Нет правды на земле. Но правды нет и выше
Наталия Каминская
"Культура" ,
27.04.2000
Грузин Роберт Стуруа знает, каково это — жить в Вавилоне. Его маленькая буферная страна и особенно ее прекрасная столица Тбилиси — и есть Вавилон, фантасмагорическое смешение эпох, стилей, языков и менталитетов. Вавилон — это уголок земли, на который Всевышний сбросил «каждой твари по паре» и повелел: живите вместе. Такова и Венеция времен Шекспира, легендарный свободный город, чрево богатства и порока. Когда речь идет о большом художнике, национальное и биографическое в нем имеют особую ценность. Ибо именно оно делает взгляд художника на общечеловеческие проблемы живым и пристрастным. Философ бы заметил: именно здесь органично соединяются общее и особенное. Русские актеры у Стуруа заиграли «по-руставелиевски». Как и в «Гамлете» Театра Сатирикон, женщины обрели на сцене “Et cetera” особую стать, чуть театрально утрированную и «хорошо темперированную» музыкой Гии Канчели. Молодые мужчины (компания бездельников, щедро спонсируемых купцом Антонио) существуют в забавной пластике — это некая деловитая готовность хозяев жизни при очевидном отсутствии и дела, и хозяйства. Знаменитая ирония Стуруа разлита в мельчайших и хорошо знакомых деталях: во всех этих зонтиках и шляпах, в фашистских маршах принца Арагонского (И. Золотовицкий), в пританцовывающих персонажах второго плана, в откровенной и циничной отстраненности слуги Ланчелота (В. Вержбицкий) — явного лица от театра. Образ Вавилона — в вызывающем великолепии декораций Георгия Алекси-Месхишвили. Ослепительная белизна офисной мебели и мертвенно-энергичное мерцание включенных мониторов. Этот центр непрерывного учета и накопления денег волшебным образом открывается в левую кулису, где произрастает ветвистое голубое дерево и льется теплый, южный свет. Там явно какое-то Эльдорадо, при этом кудрявая крона на белом фоне напоминает Иерусалим, ту землю, где Шейлок не был бы презренным чужаком. Правая кулиса — черные венецианские балконы, траурно-классические и так и не обжитые ни разу. Среди модных офисных кресел обретаются две библейские коровы и свинья. В финале на корову задом наперед усадят избитого Шейлока — так в грузинских деревнях когда-то возили грешников, отданных на общественное поругание. «Живая» Венеция дает себя знать скорее всего подвалом у самой рампы, под которым, возможно, текут гнилые воды и откуда шутники выбрасывают в белое великолепие дохлую крысу. Смешались красота и тлен, новые технологии и библейские звери, прагматическая реальность и изощренные вымыслы. Главная загадка спектакля «Шейлок» («Венецианский купец») Антонио — А. Филиппенко. Знающим взрывной темперамент этого артиста трудно смириться с сомнамбулической вялостью его Антонио, с очевидным равнодушием, которое демонстрирует последний по отношению и к друзьям, и к собственной судьбе. Быть может, этот венецианский купец — холодный игрок? Пресыщенный роскошью патриций, который подписывает с Шейлоком договор о фунте собственного мяса так, будто от нечего делать играет в русскую рулетку? Но он еще — и сочинитель. Он, вооружившись палочкой, дирижирует явно нафантазированной им богатой наследницей Порцией (А. Ивченко). Он, похоже, вообще устраивает весь этот театр, в том числе и анатомический — в сцене суда до того доводит дело, что ложится на операционный стол и Шейлок заносит над ним сверкающий скальпель. Если уверенный в себе и в непреложности собственных истин Антонио — некий демиург (а, похоже, это так и есть), то главная мысль спектакля Стуруа горька не на шутку. Ибо сочиненная этим демиургом жизнь со всей ее сомнительной иерархией законов, догм и моральных ценностей никуда не годится. В ней идут сплошные подмены: браки по любви требуют жестоких испытаний, законы входят в противоречие с милосердием, а само милосердие сильно отдает расизмом. Тот, кто даровал человечеству участь жить в Вавилоне, сознательно не взял на себя миссию научить его сделать эту жизнь достойной. Устойчивый ген ксенофобии, драпирующийся в бесконечные красивые постулаты, так и не изжит. Такого горького, мучительного, мудрого и вместе с тем противоречивого спектакля у Роберта Стуруа, похоже, еще не было. Кажется, это его собственный, тяжело выстраданный разговор с Тем, кто терпеливо дожидается, когда же человечество само научится жить по-человечески. Шейлок А. Калягина — контрапункт этого невыразимо трудного разговора. Тем более что герой у Стуруа решается на него сам. Калягин играет изумительно. Свою уникальную способность быть для персонажа одновременно и адвокатом, и прокурором артист реализует здесь смело, даже отчаянно. Ничто в поведении Шейлока не призвано его оправдывать, нигде не сказано, что он хорош и справедлив. Одетый с иголочки, как заправский современный банкир, грубый и высокомерный с челядью, одержимый детским чувством реванша по отношению к Антонио, слепо и властно любящий собственную дочь, которую совсем не знает, этот Шейлок никак не вызывает симпатии. Но при этом создание Калягина на редкость объемно и по-человечески узнаваемо. Он равнодушен и обидчив, дерзок и пуглив. Он чудовищно, бесконечно одинок, так одинок, что заключает Антонио в искренние, жаркие объятия. В эту минуту враг становится Шейлоку по-настоящему близким, ибо только с ним, с Антонио, и связана у него надежда на моральную победу. Однако в том-то и трагическая суть замысла Стуруа, что Шейлок решил возроптать не на венецианца, он забрал выше. Знаменитый монолог («Когда вы нас колете, разве из нас тоже не идет кровь? Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем?») он адресует не людям. Вот где хочется снять перед режиссером шляпу за его высочайшие ценностные ориентиры: ни один человек на земле не должен оправдываться перед себе подобными за то, что рожден с такими же руками, головой и сердцем, как все остальные. Вот и Шейлок — Калягин не оправдывается. Он осмеливается… апеллировать к Тому, кто, сотворив его народ таким же, как все человечество, обрек его на особые муки. При этом откровенно боится возмездия, ежится от внезапных ударов оркестрового «грома», заворачивается в свой молитвенный талес, как дитя, что прячется под одеяло. Сокращенная пьеса заканчивается каким-то горьким многоточием, похожим на очередное, но не окончательное возмездие. После суда Шейлока линчуют. А Антонио впадает в еще более мрачную меланхолию. Торжествует только вавилонское житье, в котором циничное сочинительство купца и дерзкий ропот ростовщика, в сущности, одинаково наказуемы. Ибо и тот, и другой, и все, рожденные с руками, ногами и сердцем, так и не научились жить достойно.