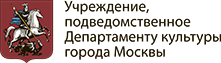Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Лабардан по-московски
Мария Кингисепп
Вечерний Санкт-Петербург ,
23.05.2018
ТЕАТР «ET CETERA» ПОКАЗАЛ НА СЦЕНЕ БДТ НЕВИДАННУЮ ВЕРСИЮ «РЕВИЗОРА» С АЛЕКСАНДРОМ КАЛЯГИНЫМ В РОЛИ ХЛЕСТАКОВА
Сказать, что непривычная трактовка комедии Гоголя удивила петербургскую публику, – ничего не сказать. Шутка ли, инкогнито из Петербурга – не молодой повеса, а пожилой человек. Никогда такого не было – и вдруг такой пердимонокль!
Роберт Стуруа, ныне главный режиссер московского «Et Cetera», был краток. Известный своей манерой парадоксальным и совершенно непредсказуемым образом интерпретировать классику, он решительно сократил пятичастную комедию Гоголя до одного полуторачасового действия и назвал результат «Ревизор. Версия».
Купюр знатоки пьесы насчитали великое множество. Отсутствует, например, целый ряд сцен взяточничества, когда рельефные гоголевские типажи наперебой подсовывают Хлестакову энные суммы, соревнуясь в искусстве доноса и подхалимажа. Вместо этого чиновники скидываются, складывают деньги в дорожный саквояж внушительных размеров и вручают Хлестакову.
Обычно это простор для актерской самореализации, но здесь исполнители ее напрочь лишены. Первая мысль – не справились, не потянули. Но оказывается, в этом не было нужды: Стуруа категорически обезличивает коррупцию, у него все должностные лица – на одно лицо и ходят чуть ли не в униформе (художник по костюмам Анна Нинуа одела чинуш в черные сюртуки, расшитые аляповатыми узорами).
Отсутствуют многие фразы, ставшие афоризмами, и целые фрагменты, например, все реплики про унтер-офицерскую жену, которая сама себя высекла. Слуга Хлестакова Осип (Григорий Старостин) оказался лишен дара речи и всю дорогу беспомощно, хоть и экспрессивно, мычит.
Что же осталось? Авторское видение – именно в виде версии. Самостоятельным действующим лицом становится музыка: героическая, торжественная, легкомысленная, но чаще – тревожно-ворчливая. Филармоническая классика и клубный джаз звучат краткими рваными фрагментами – не то пластинку заело, не то двоечник монтировал саундтрек (как та ключница, что водку делала).
А главное – никуда не делась печальная наша действительность, подмеченная и описанная автором на века. Александр Боровский создал декорацию в форме двора-колодца: три голые грязные стены с налетом ржавчины, пустые оконные и дверные проемы, за которыми то синева, то чистый изумруд, то алое зарево, то убогая серость, то призрачные силуэты, сошедшие с гравюр. В каждом окне сиротливо висят лампочки, которые нервно моргают и взрываются.
Помпезная люстра за ненадобностью поначалу пылится на полу, потом все же взмывает вверх, дабы придать событиям нужную статусность, но то и дело предательски норовит сорваться вниз и ненароком придавить кого ни попадя. Ее суетливо подпирают палкой, но затея эта заведомо бесполезная, все равно что траву спешно красить в зеленый цвет: ясно, что все безнадежно висит на соплях, все запущено, все депрессивно, все разваливается – все дела в большом запустении, и разруха в головах давно стала общим местом.
«Ловкость рук и никакого мошенничества» проиллюстрирована и цирковыми фокусами, усиливающими репризный способ существования артистов. Например, письмо о прибытии ревизора достают из шкатулки. Она спускается на невидимой нитке сверху (читай – свыше), а далее Городничий воровато следует принципу «после прочтения сжечь» и поджигает бумагу, грозящую всякими неприятностями. Яркая вспышка – и письма как не бывало.
До появления на сцене Калягина спектакль подтормаживает. Реплики, и без того сокращенные, никто не смакует, даже расхожие афоризмы вроде «Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать» идут впроброс. Чиновники все время на ногах, присесть им некуда: выкрикивают текст, бегают трусливой стайкой гиен, периодически замирают, почуяв опасность. Городничий (Владимир Скворцов) общается исключительно фортиссимо, на повышенных тонах, как неуверенный в себе начальник.
И наконец – долгожданное явление Хлестакова: из сумрака он выходит, нет – выезжает на кресле-каталке. Это жалкий, обрюзгший, уставший и беспомощный старик, который не то что шашкой махать – встать не может, только знай себе похрапывает. У него трясутся ручки и дрожит голос. Он раздражителен и плюется – и тут же растерянно озирается, явно страдая от болезни Альцгеймера.
Он туговат на ухо, и Анне Андреевне Сквозник-Дмухановской (Наталье Благих пикантнее прочих удается небанальная клоунада) приходится повышать голос, обращаясь к нему, и присаживаться на стул, снабженный колесиками (под стать инвалидному креслу), чтобы оказаться на уровне глаз досточтимого и немощного гостя. «Зачем вы меня обижаете?» – жалобно гундосит он с интонацией «маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина. «Лабардан!» – в очередной раз очнувшись от дремы, вскрикивает он, сам похожий на треску бесхребетную, и слышится в этом «Абырвалг» Полиграфа Полиграфовича Шарикова…
Собственно, все происходящее видится и публике и персонажам как ночной кошмар, какой-то дурной морок. Видения ревизора сменяются кошмарами Городничего.
Финал же таков, что немая сцена происходит прежде в зрительном зале, и лишь затем – на сцене. Ревизор действительно является дважды, причем буквально: те же – и тот же ревизор. Но он исцелился, встал на ноги и оказался вдруг высок, статен, широк в плечах и говорит ледяным тоном с металлическими нотками. По сути, сообщает: аз есмь царь – и вы меня достойны.
Только вот странное дело. Жути на зрителей Стуруа нагнал. Игра Калягина – филигранна. Но катарсиса, кажется, никто не испытал. Зал во всяком случае не встал, хотя аплодировал честно и почтительно.
Сказать, что непривычная трактовка комедии Гоголя удивила петербургскую публику, – ничего не сказать. Шутка ли, инкогнито из Петербурга – не молодой повеса, а пожилой человек. Никогда такого не было – и вдруг такой пердимонокль!
Роберт Стуруа, ныне главный режиссер московского «Et Cetera», был краток. Известный своей манерой парадоксальным и совершенно непредсказуемым образом интерпретировать классику, он решительно сократил пятичастную комедию Гоголя до одного полуторачасового действия и назвал результат «Ревизор. Версия».
Купюр знатоки пьесы насчитали великое множество. Отсутствует, например, целый ряд сцен взяточничества, когда рельефные гоголевские типажи наперебой подсовывают Хлестакову энные суммы, соревнуясь в искусстве доноса и подхалимажа. Вместо этого чиновники скидываются, складывают деньги в дорожный саквояж внушительных размеров и вручают Хлестакову.
Обычно это простор для актерской самореализации, но здесь исполнители ее напрочь лишены. Первая мысль – не справились, не потянули. Но оказывается, в этом не было нужды: Стуруа категорически обезличивает коррупцию, у него все должностные лица – на одно лицо и ходят чуть ли не в униформе (художник по костюмам Анна Нинуа одела чинуш в черные сюртуки, расшитые аляповатыми узорами).
Отсутствуют многие фразы, ставшие афоризмами, и целые фрагменты, например, все реплики про унтер-офицерскую жену, которая сама себя высекла. Слуга Хлестакова Осип (Григорий Старостин) оказался лишен дара речи и всю дорогу беспомощно, хоть и экспрессивно, мычит.
Что же осталось? Авторское видение – именно в виде версии. Самостоятельным действующим лицом становится музыка: героическая, торжественная, легкомысленная, но чаще – тревожно-ворчливая. Филармоническая классика и клубный джаз звучат краткими рваными фрагментами – не то пластинку заело, не то двоечник монтировал саундтрек (как та ключница, что водку делала).
А главное – никуда не делась печальная наша действительность, подмеченная и описанная автором на века. Александр Боровский создал декорацию в форме двора-колодца: три голые грязные стены с налетом ржавчины, пустые оконные и дверные проемы, за которыми то синева, то чистый изумруд, то алое зарево, то убогая серость, то призрачные силуэты, сошедшие с гравюр. В каждом окне сиротливо висят лампочки, которые нервно моргают и взрываются.
Помпезная люстра за ненадобностью поначалу пылится на полу, потом все же взмывает вверх, дабы придать событиям нужную статусность, но то и дело предательски норовит сорваться вниз и ненароком придавить кого ни попадя. Ее суетливо подпирают палкой, но затея эта заведомо бесполезная, все равно что траву спешно красить в зеленый цвет: ясно, что все безнадежно висит на соплях, все запущено, все депрессивно, все разваливается – все дела в большом запустении, и разруха в головах давно стала общим местом.
«Ловкость рук и никакого мошенничества» проиллюстрирована и цирковыми фокусами, усиливающими репризный способ существования артистов. Например, письмо о прибытии ревизора достают из шкатулки. Она спускается на невидимой нитке сверху (читай – свыше), а далее Городничий воровато следует принципу «после прочтения сжечь» и поджигает бумагу, грозящую всякими неприятностями. Яркая вспышка – и письма как не бывало.
До появления на сцене Калягина спектакль подтормаживает. Реплики, и без того сокращенные, никто не смакует, даже расхожие афоризмы вроде «Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать» идут впроброс. Чиновники все время на ногах, присесть им некуда: выкрикивают текст, бегают трусливой стайкой гиен, периодически замирают, почуяв опасность. Городничий (Владимир Скворцов) общается исключительно фортиссимо, на повышенных тонах, как неуверенный в себе начальник.
И наконец – долгожданное явление Хлестакова: из сумрака он выходит, нет – выезжает на кресле-каталке. Это жалкий, обрюзгший, уставший и беспомощный старик, который не то что шашкой махать – встать не может, только знай себе похрапывает. У него трясутся ручки и дрожит голос. Он раздражителен и плюется – и тут же растерянно озирается, явно страдая от болезни Альцгеймера.
Он туговат на ухо, и Анне Андреевне Сквозник-Дмухановской (Наталье Благих пикантнее прочих удается небанальная клоунада) приходится повышать голос, обращаясь к нему, и присаживаться на стул, снабженный колесиками (под стать инвалидному креслу), чтобы оказаться на уровне глаз досточтимого и немощного гостя. «Зачем вы меня обижаете?» – жалобно гундосит он с интонацией «маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина. «Лабардан!» – в очередной раз очнувшись от дремы, вскрикивает он, сам похожий на треску бесхребетную, и слышится в этом «Абырвалг» Полиграфа Полиграфовича Шарикова…
Собственно, все происходящее видится и публике и персонажам как ночной кошмар, какой-то дурной морок. Видения ревизора сменяются кошмарами Городничего.
Финал же таков, что немая сцена происходит прежде в зрительном зале, и лишь затем – на сцене. Ревизор действительно является дважды, причем буквально: те же – и тот же ревизор. Но он исцелился, встал на ноги и оказался вдруг высок, статен, широк в плечах и говорит ледяным тоном с металлическими нотками. По сути, сообщает: аз есмь царь – и вы меня достойны.
Только вот странное дело. Жути на зрителей Стуруа нагнал. Игра Калягина – филигранна. Но катарсиса, кажется, никто не испытал. Зал во всяком случае не встал, хотя аплодировал честно и почтительно.