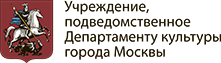Пресса
5:00
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Карт-бланш. Черный вертеп русской истории
Владимир Колязин
"Независимая газета" ,
19.01.2015
Художественная фантазия Штайна и его страсть к точности беспредельны. До последнего времени у него всегда было достаточно энергии добиться стилистической чистоты. В «Годунове» Штайн еще раз признается в своей одержимости Россией.
Монтажный калейдоскоп пушкинской драмы в системе черных кабинетов Фердинанда Вегербауэра разворачивается пугающе и жестоко… Художник прибегает к форме вертепа-складня, добиваясь с помощью «бегающих», как створки кинокамеры, черных суперзанавесов эффекта молниеносной смены исторических картин. Иногда они выпуклы и многофигурны, будто на картинах передвижников, иногда кипящие страстью и интимны, как на полотнах Ге, иногда плоскостно-стереоскопичны, будто лубочные или графические листы. Вертеп здесь – чрево русской истории, в которую Пушкин заглянул с пристрастием и стекленеющим от ужаса глазом Пимена, чрево, которое не «все еще» плодоносить готово, а плодоносит всегда одно и то же.
Стилизация у Штайна пляшет под руку с эпическим монтажом. Механизм сценографии Вегербауэра призван воссоздать темпы и ритмы исторического деяния, русской гульбы, русской тирании, русской смуты, отстраненности русского человека от «государственного деяния». Вегербауэровские кулисы и суперы отмеряют, считывают и окольцовывают смыслом время и пространство драмы, словно плоскости гигантской многомерной кафкианской плахи.
Минималистическая эскизность оказывается под стать вскрытой Штайном эпичности пушкинской драмы. Никаких вариаций Василия Блаженного (лишь Царь-колокол на плечах голытьбы). Никаких пышных убранств польских дворцов (лишь лейбл «Чудес св. Игнатия Лойолы» Рубенса на белом супере). Никаких натуралистических батальных сцен (лишь лубочные марши оловянных солдатиков да в угоду пушкинским сатире и сарказму околевшая посреди гордой красоты русского зимнего леса лошадь Самозванца). Прошитая насквозь тихим колокольным звоном, то ласково-величаво льющаяся, как пушкинский стих, то шуршащая, дребезжащая, то скрежещущая, раздирающая душу грозовая музыка неаполитанца Маcсимилиано Гальярди выводит драму на просторы площади и вселенной.
Все герои здесь – лицедеи истории. Драма со злодейства начинается и злодейством кончается. Задача, которую ставит перед собой Штайн, – вскрыть принципы сурового пушкинского взгляда на человека и на историю.
Перед нами разворачивается вечное конфронтационное поле русской истории: бесконечно однообразны и повторяемы ее преступления, интриги и заговоры. Но так же бесконечно однообразна и повторяема роковая участь западных соседей в этой исторической мясорубке. Никто так до Штайна не заострял внимание на охочих до русского добра и трона шляхтичах и литовцах, на «московских беглецах», в мгновение ока оседлавших Самозванца, этого фантома в бородавках, расколовшего Русь как гигантский метеорит (Сергей Давыдов не удерживает, увы, тяжесть роли). Представлены они не как отвратительные злодеи, а как выразители неумолимой исторической воли, превращающей их в жалких пешек. Расселившись «на стыке», русичи и западные племена так и не обрели модуса братского сосуществования, блеск одной половины лишь оттеняет нищету второй, и наоборот.
Помещенные в пространство этого исторического вертепа, пушкинские герои обрели свою остраняющую амбивалентность, вращательную силу, делающую их объектом нашего поэтического созерцания и судебного обзора. Может даже показаться, что в сценах «за шеломянемъ» Руси Штайном представлен восхитительный недосягаемый мир западной цивилизации… Его Пушкин (Пушкин контекста и подтекста) предлагает видеть в любой монете лицевую и оборотную стороны; пушкинское прощанье с «немытой Россией» – это всегда прощанье безо всяких иллюзий. Решивший, что Лжедимитрий несет России свободу, должен сто раз задуматься, ибо так же верно и то, что об эту Россию Запад непременно споткнется.
В штайновском решении образа народа доминирует тема русского идолопоклонства.
Загадка Годунова – в чем она? Трагедия Годунова – мелкого тирана, снедаемого жаждой власти, сущего временщика (ипохондричный Владимир Симонов) – вторична для постановщика и для актера, она лишь компонент театральности истории. Штайн призывает не преувеличивать роль тирана, по природе своей всего лишь исполнителя лукавого, неправого закона, испокон воцарившегося на Руси. Годунов Симонова не обладает ни масштабом злодея, ни комплексом Лира. «Кровавые мальчики», низвергающие государей с трона, так удавшиеся Штайну (и самому мальчику), говорят зрительскому чувству гораздо больше, если не все. Страшней система с ее вечным рабством, преступным характером власти, господством злого уха и косого глаза (одно из совершенных воплощений этого принципа – образ Василия Шуйского, созданный Владимиром Скворцовым).
Интеллектуальный каркас постановки неуязвим, но нередко страсть Штайна к абсолютной достоверности оборачивается по-детски плакатной наивностью и музейным перформансом. Так ли уж нужно в момент рассказа патриарха Борису о видении посетившей его старушки (образ удушенного царевича) поднимать над троном фигурку младенца и запускать ее затем в небеса? Там, где эпическое подменяется повествовательным, иллюстративным, наступает пустота. В непривычной для Et Cetera оптике бояре зачастую кажутся персонажами этнографического театра. Главная проблема спектакля – отсутствие актерских работ высшего класса. О нескольких добротных работах (лукавый князь Шуйский – Владимир Скворцов, статный Басманов – Алексей Осипов) нужно говорить отдельно. Много ли надежд на то, что со временем разные актерские потоки удастся сгармонизировать – мастер уехал, кому работать со Словом?
Так что же хотел сказать Пушкин? В чем оно, пушкинское послание в час, когда слово изреченное вдруг стало опасно, как граната? Хаос ли движет русской историей или скрытые законы? Довлеет ли над ней вечное проклятие нечестно, неправедно, преступно обретенной власти? Донес ли это до нас Штайн, которого интересует полная противоположность тому, что интересовало в Пушкине, например, Константина Богомолова (что обязан я сказать о Пушкине?). «Хладнокровный» западник Штайн, сжимающий «Бориса Годунова» до притчи, дает возможность Пушкину говорить самому, а нам соглашаться или спорить с Пушкиным, и в этом отличие его интерпретации. Царь в лучах златотканого сияния – не верховная сила, а жалкий временщик. Народ – не выразитель мнения, а тело для нагайки погонщика… Штайн сжимает плач народный (безмолвие) до капли слезы – после известия боярина о «самоубийстве» Марии Годуновой и призыва величать Самозванца поникшая толпа сбивается в мышиный комочек, который и пискнуть не в силах. Возможно, через секунду он и вовсе провалится в гигантские черные тартарары. И нам нести этот глухой крик в бездну.
Монтажный калейдоскоп пушкинской драмы в системе черных кабинетов Фердинанда Вегербауэра разворачивается пугающе и жестоко… Художник прибегает к форме вертепа-складня, добиваясь с помощью «бегающих», как створки кинокамеры, черных суперзанавесов эффекта молниеносной смены исторических картин. Иногда они выпуклы и многофигурны, будто на картинах передвижников, иногда кипящие страстью и интимны, как на полотнах Ге, иногда плоскостно-стереоскопичны, будто лубочные или графические листы. Вертеп здесь – чрево русской истории, в которую Пушкин заглянул с пристрастием и стекленеющим от ужаса глазом Пимена, чрево, которое не «все еще» плодоносить готово, а плодоносит всегда одно и то же.
Стилизация у Штайна пляшет под руку с эпическим монтажом. Механизм сценографии Вегербауэра призван воссоздать темпы и ритмы исторического деяния, русской гульбы, русской тирании, русской смуты, отстраненности русского человека от «государственного деяния». Вегербауэровские кулисы и суперы отмеряют, считывают и окольцовывают смыслом время и пространство драмы, словно плоскости гигантской многомерной кафкианской плахи.
Минималистическая эскизность оказывается под стать вскрытой Штайном эпичности пушкинской драмы. Никаких вариаций Василия Блаженного (лишь Царь-колокол на плечах голытьбы). Никаких пышных убранств польских дворцов (лишь лейбл «Чудес св. Игнатия Лойолы» Рубенса на белом супере). Никаких натуралистических батальных сцен (лишь лубочные марши оловянных солдатиков да в угоду пушкинским сатире и сарказму околевшая посреди гордой красоты русского зимнего леса лошадь Самозванца). Прошитая насквозь тихим колокольным звоном, то ласково-величаво льющаяся, как пушкинский стих, то шуршащая, дребезжащая, то скрежещущая, раздирающая душу грозовая музыка неаполитанца Маcсимилиано Гальярди выводит драму на просторы площади и вселенной.
Все герои здесь – лицедеи истории. Драма со злодейства начинается и злодейством кончается. Задача, которую ставит перед собой Штайн, – вскрыть принципы сурового пушкинского взгляда на человека и на историю.
Перед нами разворачивается вечное конфронтационное поле русской истории: бесконечно однообразны и повторяемы ее преступления, интриги и заговоры. Но так же бесконечно однообразна и повторяема роковая участь западных соседей в этой исторической мясорубке. Никто так до Штайна не заострял внимание на охочих до русского добра и трона шляхтичах и литовцах, на «московских беглецах», в мгновение ока оседлавших Самозванца, этого фантома в бородавках, расколовшего Русь как гигантский метеорит (Сергей Давыдов не удерживает, увы, тяжесть роли). Представлены они не как отвратительные злодеи, а как выразители неумолимой исторической воли, превращающей их в жалких пешек. Расселившись «на стыке», русичи и западные племена так и не обрели модуса братского сосуществования, блеск одной половины лишь оттеняет нищету второй, и наоборот.
Помещенные в пространство этого исторического вертепа, пушкинские герои обрели свою остраняющую амбивалентность, вращательную силу, делающую их объектом нашего поэтического созерцания и судебного обзора. Может даже показаться, что в сценах «за шеломянемъ» Руси Штайном представлен восхитительный недосягаемый мир западной цивилизации… Его Пушкин (Пушкин контекста и подтекста) предлагает видеть в любой монете лицевую и оборотную стороны; пушкинское прощанье с «немытой Россией» – это всегда прощанье безо всяких иллюзий. Решивший, что Лжедимитрий несет России свободу, должен сто раз задуматься, ибо так же верно и то, что об эту Россию Запад непременно споткнется.
В штайновском решении образа народа доминирует тема русского идолопоклонства.
Загадка Годунова – в чем она? Трагедия Годунова – мелкого тирана, снедаемого жаждой власти, сущего временщика (ипохондричный Владимир Симонов) – вторична для постановщика и для актера, она лишь компонент театральности истории. Штайн призывает не преувеличивать роль тирана, по природе своей всего лишь исполнителя лукавого, неправого закона, испокон воцарившегося на Руси. Годунов Симонова не обладает ни масштабом злодея, ни комплексом Лира. «Кровавые мальчики», низвергающие государей с трона, так удавшиеся Штайну (и самому мальчику), говорят зрительскому чувству гораздо больше, если не все. Страшней система с ее вечным рабством, преступным характером власти, господством злого уха и косого глаза (одно из совершенных воплощений этого принципа – образ Василия Шуйского, созданный Владимиром Скворцовым).
Интеллектуальный каркас постановки неуязвим, но нередко страсть Штайна к абсолютной достоверности оборачивается по-детски плакатной наивностью и музейным перформансом. Так ли уж нужно в момент рассказа патриарха Борису о видении посетившей его старушки (образ удушенного царевича) поднимать над троном фигурку младенца и запускать ее затем в небеса? Там, где эпическое подменяется повествовательным, иллюстративным, наступает пустота. В непривычной для Et Cetera оптике бояре зачастую кажутся персонажами этнографического театра. Главная проблема спектакля – отсутствие актерских работ высшего класса. О нескольких добротных работах (лукавый князь Шуйский – Владимир Скворцов, статный Басманов – Алексей Осипов) нужно говорить отдельно. Много ли надежд на то, что со временем разные актерские потоки удастся сгармонизировать – мастер уехал, кому работать со Словом?
Так что же хотел сказать Пушкин? В чем оно, пушкинское послание в час, когда слово изреченное вдруг стало опасно, как граната? Хаос ли движет русской историей или скрытые законы? Довлеет ли над ней вечное проклятие нечестно, неправедно, преступно обретенной власти? Донес ли это до нас Штайн, которого интересует полная противоположность тому, что интересовало в Пушкине, например, Константина Богомолова (что обязан я сказать о Пушкине?). «Хладнокровный» западник Штайн, сжимающий «Бориса Годунова» до притчи, дает возможность Пушкину говорить самому, а нам соглашаться или спорить с Пушкиным, и в этом отличие его интерпретации. Царь в лучах златотканого сияния – не верховная сила, а жалкий временщик. Народ – не выразитель мнения, а тело для нагайки погонщика… Штайн сжимает плач народный (безмолвие) до капли слезы – после известия боярина о «самоубийстве» Марии Годуновой и призыва величать Самозванца поникшая толпа сбивается в мышиный комочек, который и пискнуть не в силах. Возможно, через секунду он и вовсе провалится в гигантские черные тартарары. И нам нести этот глухой крик в бездну.