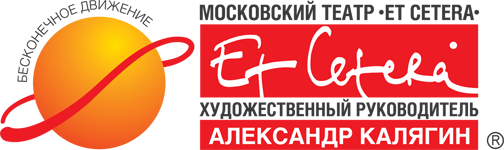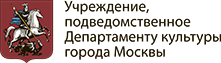Пресса
5:00
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Наряд безмолвствует.
Роман Должанский
"Коммерсант" ,
19.01.2015
В театре Et Cetera состоялась премьера спектакля, который давно планировался как одно из главных событий московского театрального сезона,— "Борис Годунов" Пушкина в постановке знаменитого немецкого режиссера Петера Штайна и его постановочной команды. Рассказывает РОМАН ДОЛЖАНСКИЙ.
Бывают спектакли, которые остается либо высмеять, либо оплакать — в зависимости от того, явился ли увиденный результат следствием естественного хода времени, беспощадного даже к великим мастерам, или же причина в излишней деловитости знаменитого постановщика, выставляющего на продажу уже не творческую идеи, а одно лишь свое имя. Если бы речь шла не о великом Петере Штайне, интеллектуале и знатоке литературы, в том числе и русской, можно было бы предположить и третье — в мире ведь "Борис Годунов" известен в первую очередь как опера Мусоргского и только во вторую — как пьеса Пушкина. Но заподозрить столь банальную, комическую аберрацию по отношению к режиссеру такого масштаба весьма затруднительно.
Вообще, вменяемые театральные люди хорошо знают, что так называемый историзм — все равно конъюнктурного он или искреннего свойства — при постановке пушкинского "Бориса Годунова" губителен. В опере это, скорее всего, по-прежнему возможно — хотя бы в сувенирно-туристическом сегменте музыкального театра, а вот в драме невозможно абсолютно. Как только начинаешь клеить Пимену седую бороду, занимать руки Бориса скипетром и державой, включать колокола, рядить бояр в шапки, а народ — в живописные, свежерваные лохмотья, то все: пиши пропало. И причина тому вовсе не в конфликте между старомодностью и новизной, а в самой поэтике драмы Пушкина. Легко предположить, что иностранцам означенная ловушка видна гораздо хуже, чем соотечественникам: но вот ведь разглядел ее в свое время англичанин Деклан Доннеллан, отлично поставивший на рубеже веков "Бориса Годунова" с русскими актерами. Почему господин Штайн с размаха угодил в западню, можно только гадать. Наверное, бывает, что и постаревшие гроссмейстеры получают мат в три хода, но все-таки им нужно для этого как-то очень расслабиться.
Конечно, исторический антураж явлен в "Борисе Годунове", так сказать, не в натуральную величину, а в современном, скупом варианте, претендующем на дизайнерскую элегантность. Задник-экран и бесшумные черные ширмы-диафрагмы должны придавать спектаклю холодноватую отстраненность и динамизм. Петер Штайн утверждает, что единственная задача режиссера — "выстроить плавную последовательность сцен". Помогает ему планировка театра, предусматривающая наличие двух дополнительных боковых сцен: то справа, то слева от основной сцены открываются небольшие комнатки, что позволяет перебрасывать действие из одного места в другое. На большой же сцене фрагменты декораций выезжают вперед на небольших фурках — фонтан, корчма, уголок кельи летописца со свечой, царский трон на обитых красной тканью ступенях (художник Фердинанд Вегербауэр). Получается, правда, не элегантно, а как-то по-тюзовски незатейливо и наивно дешево — так, что вся якобы величественная картина вдруг напоминает обаятельный советский мультфильм "Вовка в тридевятом царстве".
Гротеск, кстати, Петеру Штайну вовсе не чужд — сцены военной кампании решены как кукольная битва, а само вторжение на Русь обозначено разбиванием пополам пограничного шлагбаума. Да и огромный бутафорский труп лошади, лежащий на поле брани и повернутый к зрителю хвостовой частью, можно счесть проявлением сарказма, свойственного маститому режиссеру. Вот ведь и поляки в этом "Борисе Годунове" одеты по моде, опережающей русские фасоны как минимум лет на двести (художник по костюмам Анна-Мария Хайнрайх). Может, и зашифровано в таком решении послание о вечной отсталости России и о том, что на самом деле интервенты могли принести сюда прогресс (есть же такая версия у историков). А может, и не зашифровано ничего — от спектакля остается ощущение, что сказать Петеру Штайну по выбранной теме вообще-то нечего.
В отсутствие предмета высказывания "Борис Годунов" сделан в какой-то обезоруживающе архаичной системе координат: это тот театр, в котором дозорные, упустившие беглеца, почему-то не бегут за ним, а громко кричат "стой!", а бояре расцвечивают в диалогах каждую фразу, но при этом никакого напряжения между персонажами не возникает. Еще со времен великих (действительно великих!) штайновских "Трех сестер" за немецким мастером закрепилась репутация одного из самых тонких последователей Станиславского. Если так, то многие сцены выпущенного спектакля нужно возвращать в репетиционный зал, к застольному периоду и разбирать "по системе". Что касается актерских работ, то живее всех в "Годунове" выглядит самозванец Сергея Давыдова: вроде бы еще совсем немного — и роль обретет нерв и смысл. Путь, который предстоит пройти Владимиру Симонову (Годунов), пока кажется более длинным — сейчас выручает одно лишь мастерство.
Спектакль Петера Штайна лишний раз обозначил лживость расхожего театрального убеждения, что в современном театре возможно "идти за автором". Когда тебе кажется, что ты "идешь за автором", ты просто топчешься на месте. И то, что ты на этом пути вдруг начинаешь к автору прибавлять, заводит тебя уже и вовсе в театральное никуда. Как завел в никуда немецкого мастера хрупкий маленький мальчик, измазанный белилами и красными подтеками,— тень убитого царевича Димитрия, медленно и многозначительно пересекающая сцену в шапочке Мономаха. В каждом неудачном спектакле бывает момент, когда становится понятно: случилась не просто ошибка, а катастрофа. В "Годунове" тоже есть такой момент — это когда бедный мальчик-призрак, закрепленный страховочными тросами, плывет под колосниками в яйцеобразной белой раме.
Бывают спектакли, которые остается либо высмеять, либо оплакать — в зависимости от того, явился ли увиденный результат следствием естественного хода времени, беспощадного даже к великим мастерам, или же причина в излишней деловитости знаменитого постановщика, выставляющего на продажу уже не творческую идеи, а одно лишь свое имя. Если бы речь шла не о великом Петере Штайне, интеллектуале и знатоке литературы, в том числе и русской, можно было бы предположить и третье — в мире ведь "Борис Годунов" известен в первую очередь как опера Мусоргского и только во вторую — как пьеса Пушкина. Но заподозрить столь банальную, комическую аберрацию по отношению к режиссеру такого масштаба весьма затруднительно.
Вообще, вменяемые театральные люди хорошо знают, что так называемый историзм — все равно конъюнктурного он или искреннего свойства — при постановке пушкинского "Бориса Годунова" губителен. В опере это, скорее всего, по-прежнему возможно — хотя бы в сувенирно-туристическом сегменте музыкального театра, а вот в драме невозможно абсолютно. Как только начинаешь клеить Пимену седую бороду, занимать руки Бориса скипетром и державой, включать колокола, рядить бояр в шапки, а народ — в живописные, свежерваные лохмотья, то все: пиши пропало. И причина тому вовсе не в конфликте между старомодностью и новизной, а в самой поэтике драмы Пушкина. Легко предположить, что иностранцам означенная ловушка видна гораздо хуже, чем соотечественникам: но вот ведь разглядел ее в свое время англичанин Деклан Доннеллан, отлично поставивший на рубеже веков "Бориса Годунова" с русскими актерами. Почему господин Штайн с размаха угодил в западню, можно только гадать. Наверное, бывает, что и постаревшие гроссмейстеры получают мат в три хода, но все-таки им нужно для этого как-то очень расслабиться.
Конечно, исторический антураж явлен в "Борисе Годунове", так сказать, не в натуральную величину, а в современном, скупом варианте, претендующем на дизайнерскую элегантность. Задник-экран и бесшумные черные ширмы-диафрагмы должны придавать спектаклю холодноватую отстраненность и динамизм. Петер Штайн утверждает, что единственная задача режиссера — "выстроить плавную последовательность сцен". Помогает ему планировка театра, предусматривающая наличие двух дополнительных боковых сцен: то справа, то слева от основной сцены открываются небольшие комнатки, что позволяет перебрасывать действие из одного места в другое. На большой же сцене фрагменты декораций выезжают вперед на небольших фурках — фонтан, корчма, уголок кельи летописца со свечой, царский трон на обитых красной тканью ступенях (художник Фердинанд Вегербауэр). Получается, правда, не элегантно, а как-то по-тюзовски незатейливо и наивно дешево — так, что вся якобы величественная картина вдруг напоминает обаятельный советский мультфильм "Вовка в тридевятом царстве".
Гротеск, кстати, Петеру Штайну вовсе не чужд — сцены военной кампании решены как кукольная битва, а само вторжение на Русь обозначено разбиванием пополам пограничного шлагбаума. Да и огромный бутафорский труп лошади, лежащий на поле брани и повернутый к зрителю хвостовой частью, можно счесть проявлением сарказма, свойственного маститому режиссеру. Вот ведь и поляки в этом "Борисе Годунове" одеты по моде, опережающей русские фасоны как минимум лет на двести (художник по костюмам Анна-Мария Хайнрайх). Может, и зашифровано в таком решении послание о вечной отсталости России и о том, что на самом деле интервенты могли принести сюда прогресс (есть же такая версия у историков). А может, и не зашифровано ничего — от спектакля остается ощущение, что сказать Петеру Штайну по выбранной теме вообще-то нечего.
В отсутствие предмета высказывания "Борис Годунов" сделан в какой-то обезоруживающе архаичной системе координат: это тот театр, в котором дозорные, упустившие беглеца, почему-то не бегут за ним, а громко кричат "стой!", а бояре расцвечивают в диалогах каждую фразу, но при этом никакого напряжения между персонажами не возникает. Еще со времен великих (действительно великих!) штайновских "Трех сестер" за немецким мастером закрепилась репутация одного из самых тонких последователей Станиславского. Если так, то многие сцены выпущенного спектакля нужно возвращать в репетиционный зал, к застольному периоду и разбирать "по системе". Что касается актерских работ, то живее всех в "Годунове" выглядит самозванец Сергея Давыдова: вроде бы еще совсем немного — и роль обретет нерв и смысл. Путь, который предстоит пройти Владимиру Симонову (Годунов), пока кажется более длинным — сейчас выручает одно лишь мастерство.
Спектакль Петера Штайна лишний раз обозначил лживость расхожего театрального убеждения, что в современном театре возможно "идти за автором". Когда тебе кажется, что ты "идешь за автором", ты просто топчешься на месте. И то, что ты на этом пути вдруг начинаешь к автору прибавлять, заводит тебя уже и вовсе в театральное никуда. Как завел в никуда немецкого мастера хрупкий маленький мальчик, измазанный белилами и красными подтеками,— тень убитого царевича Димитрия, медленно и многозначительно пересекающая сцену в шапочке Мономаха. В каждом неудачном спектакле бывает момент, когда становится понятно: случилась не просто ошибка, а катастрофа. В "Годунове" тоже есть такой момент — это когда бедный мальчик-призрак, закрепленный страховочными тросами, плывет под колосниками в яйцеобразной белой раме.