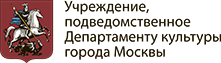01.07.2025
Её позывной «Солнышко», его — «Герой»
Марина Набатникова ,
Аргументы и Факты
24.06.2025
Кружевное воспитание
Московская беседка
10.06.2025
Ода театру
Светлана Гурина ,
сайт театра "Наш дом"
09.06.2025
«Большие гастроли»: Московский театр «Et Cetera» приехал в Озерск
Росатомкультура.рф
18.04.2025
Тайна яблоневого сада
Московская беседка
14.04.2025
Дорога в облака
Московская беседка
28.01.2025
В Et Сetera покажут «Старосветских помещиков»
Софья Малинникова ,
Театрал
26.01.2025
Театр «Et Cetera» откроет поющие двери
Театральный журнал
26.01.2025
Спектакль «Закрытая комната»: затянувшееся путешествие в поисках ключа
Наталья Романова ,
Звезды мегаполиса
16.01.2025
Настоящий страх ненастоящих людей
Московская беседка
13.01.2025
"Et Cetera" приглашает в закрытую комнату
Мария Новикова ,
Театрал
04.01.2025
Где тонко, там и рвется...
Московская беседка
Пресса
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Роберт Стуруа об Александре Калягине
Роберт Стуруа
Из книги «Александр Калягин» ,
01.01.2002
Роберт Стуруа: больше всего я люблю и ценю в театре его непознаваемость, тайну, в которую погружена моя профессия. Как только пытаешься ее облечь в слова, приоткрыть какой-то занавес, получается что-то не то. Я не стану определять феномен артиста Александра Калягина — мне это не под силу, но расскажу о Калягине в моей жизни. В первый раз я увидел его в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», и его Платонов произвел на меня сильнейшее впечатление. Это был какой-то новый, непривычный способ существования артиста в роли и какой-то абсолютно нестандартный способ воздействия на зрителя. Я не мог уловить в его игре ничего из привычных штампов. А больше всего в нашей профессии я ценю именно умение делать что-то свое, непохожее на ожидаемое. Как писал Рей Брэдбери: «Если тебе дают линованную бумагу — пиши поперек». Калягин не делает это «поперек» нарочито, более того, мне кажется, что, как многие большие художники, он не знает и не может знать что-то главное в себе. Но это живет в нем и проявляется в его ролях. В Калягине сочетаются вещи несочетаемые: он может быть блестящим комиком, блестящим фарсером, но может быть и замечательным трагическим актером. У него широчайший диапазон возможностей, до конца еще не разгаданных. Когда я смотрел репетиции «Короля Убю», я сказал ему и Морфову, что здесь не хватает этой второй — трагической — составляющей Папаши Убю. И на спектакле я понял, что они сами шли в эту сторону (и мне стало неловко, что я лез со своими советами к людям, которые и сами понимали, чего им еще недостает, к чему надо стремиться). Калягин работал с Анатолием Эфросом, Олегом Ефремовым, Никитой Михалковым, Михаилом Швейцером, и в нем сохранилось какое-то любовное — другого слова не подберу — доверие к режиссеру. И все модные призывы о возвращении к «актерскому театру» проходят мимо него, так же как и разговоры о кризисе «режиссерского театра». Парадоксально, что в театре тема «кризиса режиссуры» возникла сейчас, в то время, когда необходимость в режиссере осознали политики, дизайнеры и т. д., когда всем стали необходимы режиссеры, которые определили бы суть того или иного человека и поставили ему линию поведения, органичную для него, определенную ему природой.Не говорю, что именно я могу «поставить линию» Калягину. но у меня есть одно ценное качество: я всегда исхожу от актера. И уверен: если я каких-то успехов добивался в своей жизни, то только потому, что давал свободу актерам и в работе с ними исходил из их индивидуальности, творческой и человеческой. Тонино Гуэрра как-то рассказал мне историю, которая показалась мне в чем-то родной. В 17 лет он выпустил первый сборник стихов. Его за эти стихи сильно разругали. И только знаменитый художник Моранди позвонил юному поэту и пригласил его к себе на виллу. После обеда вышли на террасу. Гуэрра заметил на лужайке какие-то бугорки. «Что это?» — спросил он хозяина. «Это кладбище кистей», — ответил Моранди. Оказывается, он так любил свои кисти, что исписывал их до последнего волоска. А потом не мог выбросить, хоронил в земле, как друзей… Мои актеры — мои кисти, мои инструменты, мои друзья.Калягин, при всем длинном шлейфе сыгранных ролей, — актер, так до конца не познанный, не разгаданный. Он не перестает меня удивлять и на сцене, и во время репетиций, и в жизни. Помню, как однажды мы проезжали по одной из московских улиц и он сказал, что здесь родился, и стал ностальгически вспоминать детство, юность. Вдруг я понял еще одну важную черту его облика: он же коренной москвич, с тем самым неуловимым «московским отпечатком», который мне, приезжему, особенно заметен. Он хорошо знает Москву, ее улицы, ее бульвары. И эту московскую закваску можно уловить в его ролях. Даже в его Шейлоке можно было почувствовать этот московский оттенок, и он очень важен. Калягин своим исполнением как бы «приближает» к нам своих героев. И это черта его актерской индивидуальности: он поэтизирует реальность, но одновременно и приземляет ее. Когда я решил ставить «Венецианского купца», понял, что сыграть Шейлока может только человек душевно чистый, которому поверят. В нашем загипнотизированном идеей политкорректности мире иногда надо говорить о вещах, о которых говорить не принято, поднимать вопросы, о которых предпочитают забыть. В Америке изымают из школьной программы «Хижину дяди Тома», потому что там написано «негр». А положено теперь говорить: «черный» или «афроамериканец». Когда в Киеве избивают учителя возле синагоги, украинское правительство спешит сказать, что это вовсе не проявление антисемитизма. Для Шейлока требовался актер, который мог бы говорить об этой проблеме мужественно. Мне был необходим Калягин. Еще одна загадка в Калягине для меня — то, что он занимает пост председателя должность, которая, по моему мнению, должна была давно уничтожить в нем художника и творца. Но этого не происходит. Он как-то умудряется не сломаться и не зачерстветь, сидя в этом председательском кресле. Хотя страшно представить, сколько людей приходят к нему со своими нуждами, со своими проблемами за помощью. И при этом, думаю, Калягин не может быть «чиновником» и смотреть на происходящее равнодушными глазами. В актере, в его ролях всегда очень заметно, что происходит с человеком. Вдруг меняются голос, жесты, и за знакомыми чертами любимого артиста обнаруживается такое мурло, такой пошляк Это еще хуже портрета Дориана Грея. Калягин же, мне кажется, даже что-то получает как актер, проживая и наблюдая жизнь с неожиданной стороны общественного деятеля.Стало штампом говорить о безнравственности актерской профессии, но элемент «подглядывания» за жизнью, который ей присущ, действительно, малопривлекателен. Когда я стоял у гроба отца, я поймал себя на мысли: надо запомнить, как это выглядит, — пригодится для спектакля. Мне было мучительно стыдно, что я такое чудовище, что в момент настоящего сильного горя я могу анализировать и наблюдать за собой и за другими.Я думаю, что Калягину-актеру очень помогает то, что он находится в самом центре жизни, а не прозябает где-то на окраине. Он видит сотни людей: счастливых и несчастных, обозленных и деловитых, идеалистов и дельцов и т. д. И все это питает его искусство. Мне кажется, что сейчас у него начался какой-то новый творческий этап. К старости обычно сказывается груз возраста, груз ошибок, которые совершаешь в молодости по недомыслию, по бесшабашности и т. д. Они возвращаются роковым образом, и ты поймешь, что все растерял незаметно для себя. Пьеса Беккета «Последняя запись Крэппа», которую мы с Калягиным хотим сейчас поставить, тоже имеет эту тему. Это рассказ о неудавшемся писателе. Долгие годы Крэпп вел «магнитофонный» дневник, а потом стал прослушивать и обнаружил причину своего жизненного краха. Я сам когда-то очень увлекался записями. Однажды в Лозанне проводился конкурс на лучшую любительскую запись. Гран-при взял человек, который каждый год записывал в исполнении своей дочки одну строку из сказки братьев Гримм. Начал, когда ей было три года. И так — десятилетиями. Пленка рассказала, как меняется с годами человек. Замечательная была идея. Мне в новом спектакле хотелось бы использовать старые калягинские записи. Пьеса ведь представляет собой некий диалог прошлого с настоящим, но без будущего. Талантливый человек, подошедший к рубежу старости, не может понять, почему он оказался в состоянии полной деградации. И пытается понять: в чем же была его ошибка? И когда он понимает, что с ним произошло, то одновременно понимает, что поздно менять свою жизнь. Уже не вернуть и женщину, которую любил и бросил, и силы, и надежды молодости. Это пьеса о бесплодном и позднем раскаянии. И я хочу ее поставить с Калягиным, потому что это предельно не о нем. Эфрос писал о Калягине, что годы только добавляют ему мастерства и таланта. И это так. Они не отнимают ни его легкости, ни его простодушия. Калягин никогда не изменял своей профессии, не изменял себе. Он переживал тяжелые кризисы, годами не появляясь на экране, годами не играя новых ролей. Но этот его период от меня практически закрыт. Мы познакомились, когда он уже построил свой театр “Et cetera”. Мы столкнулись на вечеринке, где я страшно напился и потом очень переживал, что он сочтет меня круглым идиотом. Но после этого последовало предложение о постановке. И я был польщен, что такой артист хочет со мной работать. Я приехал, жил на квартире рядом с театром и вечерами ходил на спектакли “Et cetera”. Через какое-то время я понял, что надо удирать. Дело не в качестве спектаклей, но я не видел, что бы я мог сделать на этой сцене. Я решил, что должен уехать. Позвонил Калягину и сказал, что завтра улетаю. Он сказал, что придет поговорить со мной лично. Он пришел, и я увидел его глубоко несчастное, убитое лицо. Он выглядел как человек, переживающий настоящее сильное горе. Я обещал вскоре вернуться. Он видел, что я вру. И в какой-то момент беседы я понял, что не могу вот так уехать, не могу обмануть каких-то его ожиданий. От меня чего-то ждал великий артист, он нуждался во мне. И я счастлив, что он меня уговорил, я счастлив, что мы начали работать вместе. Он стал очень значительной частью моей жизни. И если я играю какую-то роль в его судьбе, то и он в моей играет не меньшую.