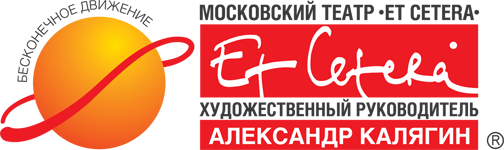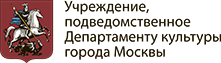10.12.2001
«Слон в посудной лавке — это грустно или смешно?»
Ольга Лаврова ,
"Ваш досуг"
22.11.2001
К Биг-Бену под биг-бэнд
Наталья Каминская, Анна Ветхова ,
"Культура"
16.11.2001
Мюзикл в погоне за пропиской
Ольга Рахаева ,
"Вечерний клуб"
15.11.2001
Сюжет удался
Дина Годер ,
"Еженедельный журнал"
15.11.2001
[“Marquee” Column]
John Freedman ,
"The Moscow Times"
13.11.2001
Его прекрасная леди
Юлия Рахаева ,
"Известия"
13.11.2001
Леди с большой платформы
Роман Должанский ,
"Коммерсантъ"
12.11.2001
Russian сам себе страшен
Марина Давыдова ,
"Время новостей"
10.08.2001
Взбитые сливки и сырой мякиш
Ярослав Залесиньский ,
"Дзенник Балтыцки (Рейсы)"
10.08.2001
Театр, или Праздник
Кшиштоф Гурский ,
"Газета Выборча (Газета Морска)"
09.08.2001
V Шекспировский фестиваль. Купец из Москвы
Кшиштоф Гурский ,
"Газета Выборча"
09.08.2001
Шейлок среди папок “Korona”
Ян Боньча-Шабловский ,
"Жечпосполита"
09.08.2001
Сердце Шейлока
Беата Чеховска-Деркач ,
"Глос Выбжежа"
09.08.2001
Новорусский купец
Кшиштоф Гурский ,
"Газета Выборча (Газета Морска)"
09.08.2001
Еврей и христианин
Юстына Сверчиньска ,
"Шекспировская газета"
09.08.2001
Месть Шейлока
Беата Лентас ,
"Шекспировская газета"
09.08.2001
Шейлок, или Исторические медитации
Наталья Лигажевска ,
"Шекспировская газета"(печатный орган V Шекспировского фестиваля)
08.08.2001
Антисказка
Агнешка Сыновска ,
"Шекспировская газета"
07.08.2001
Рекомендую Венецианского купца
Ежи Лимон, председатель Фонда Theatrum Gedanensis «Дзенник Балтыцки»
01.05.2001
Венецианский еврей на русской сцене
Алексей Бартошевич ,
"Дом Актера"
15.03.2001
Здравствуйте, я ваш Калягин!
Женя Лейзен ,
"МК" в Нижнем Новгороде
Пресса
Шейлок, или Исторические медитации
Наталья Лигажевска
"Шекспировская газета"(печатный орган V Шекспировского фестиваля) ,
09.08.2001
Прав был Шекспир, когда писал, что пьесы очень часто прочитываются сквозь призму истории. Дух ее разгуливает по Театру и мстит даже тем, чье искусство по определению является вневременным. Сколько уж раз оказывался Шекспир жертвой идеологов разной масти, желавших на вместительной универсальности его пьес сколотить себе капиталец… Должно быть, наш стратфордский автор неплохо разбирался в вопросах капитала и в законах рынка искусства — лучшим тому доказательством служит «Венецианский купец». Nomen omen — создавая пьесу о ростовщике, он сам, наверное, был по уши в долгах, в чем некогда с пылом упрекнул его Игнацы Шиппер. Претензии биографа (связанного с еврейской прессой) базировались на довольно распространенном тогда убеждении, что Шекспир был страстным антисемитом. На премьере «Купца» в постановке Рышарда Ордыньского (в 1934 — NB! — году) публика дала волю своей антипатии к Шейлоку, явно насмехаясь и издеваясь над униженным евреем, а Юноша-Стемповский играл так, как будто роль вызывала у него отвращение. Злой дух времени вновь давал о себе знать. Из гитлеровской Германии надвигалась волна антисемитизма, семена которого попадали у нас в плодородную почву. Времена изменились, а призрак прошлого все еще пугает. Для славян «Венецианский купец», похоже, никогда не станет пьесой полностью естественной, освобожденной от груза исторического опыта. И никогда не будет просто комедией, легко и фривольно рассказывающей о человеческих страстях и слабостях. Роберт Стуруа, похоже, прекрасно об этом знает — и абсолютно сознательно предлагает новое — по меркам любого времени — истолкование шекспировской пьесы, довольно смелое, а в какие-то моменты даже скандальное. Особенно скандально осовременивание. Купец Антонио в видении Стуруа — бизнесмен, расположившийся в модном офисе. Шейлок является нам как крестный отец, а Бассанио, цветок «упакованной» молодежи, щеголяя по миру, достойно представляет хитовое поколение «Пепси». Мало того — Порция, невеста на выданье, дает брачные объявления в газеты, герой-любовник Лоренцо увозит свою пассию не на коне, а на велосипеде (зато каком — современном, горном, с переключателем на три скорости!), а Грациано обнаруживает необыкновенную склонность к военным «игрушкам». О времена! Неудивительно, что у Антонио депрессия. Он сидит в позе лотоса и все твердит о своей беспричинной грусти. Не хватает только кушетки и проникновенного психотерапевта! Ну, не страшно, ведь есть проникновенный Ланчелот Гоббо, шут с каменным лицом, появляющимся раз за разом в телевизоре (чем не Кашпировский?). Что же это такое? Неужели Стуруа изменило чувство меры? К чему все эти дурацкие переодевания? Однако с другой стороны, весь этот маскарад уместен. Все-таки мы в театре, к тому же в шекспировском. Здесь постоянно кто-нибудь переодевается и строит из себя шута. Порция перевоплощается в ученого юриста, Джессика на горе отцу надевает христианские одежды, не говоря уже о шествии переодевшихся и веселящихся на венецианских улицах и площадях. Задуманная театральность вписывается в шекспировскую пьесу. Стуруа это хорошо понимает и не случайно дописывает для Ланчелота реплику: шут, появившийся на сцене, спрашивает, туда ли он попал, в ту ли пьесу («Венецианский купец» господина Шекспира? Очень приятно, Ланчелот Гоббо"). Существенно и то, что спектакль играется на фоне как бы классицистического изображения «второй» театральной сцены. Плоская черно-белая картина по сути дела открывает перспективу третьего измерения происходящего — самоироничный комментарий. Стуруа не слишком серьезно представляет весь этот маскарад: это, скорее, разновидность переодевания, театральной клоунады — по духу все же шекспировской. А что костюм не исторический. .. Так он от этого не перестает быть костюмом. Стуруа Шекспиру отдал шекспирово, современности — современное. А историческое оставил себе. И разошелся же режиссер, подчиняя оригинальный текст надобностям собственного рассказа! Шейлок в его спектакле не отрекается от своей веры, хотя Антонио этого требует. У Шекспира это было актом мести, направленной на несговорчивого еврея, — у Стуруа все по-другому. Свое требование Антонио выдвигает довольно отчаянно, в момент, когда суд оглашает, что иноверец христианскую кровь пролить не может. Юристы проще простого надули бы неприятного еврея, и Антонио отдает себе в этом отчет. Ему тяжело это осознавать, потому что Шейлок хоть и жесток, но честен и закона не нарушал. И Антонио, образец христианской добродетели, с решением суда смириться не может. Но приговор вынесен. И жаждущая самосуда толпа заполучила еврея в свои руки, напялила на него шутовскую шапку, чтобы на золотом быке возить его по ярмаркам ко всеобщей радости и потехе. На фоне таких сцен слова, которые выкрикивает Антонио, звучат по-особому: «Пусть он примет христианство!» Как акт милосердия и покаяния одновременно. Только вот никто не слышит Антонио. Потому что в конце концов — в масштабе истории — судьба отдельного человека не в счет. Не приходится сомневаться, что все дело как раз в истории. Стуруа расточителен и смел в намеках. Не случайно принц Арагонский в сватовство к Порции бросается со стремительностью фашистского боевого отряда. Важно и то, что принц Марокканский одет как лидер вооруженной группировки, а дом Шейлока напоминает резиденцию мафии Корлеоне. Куда ни глянь — всюду национализмы. Разной масти и разного происхождения, но в крайности своей все равно родственные. И когда Шейлок появляется на сцене в нищенском одеянии с намалеванной мелом на спине звездой Давида, уже известно: он не из Шекспира — из гетто. В такой перспективе монолог Шейлока обретает совершенно иное измерение: «Когда нас обидишь, разве не должны мы искать мести? Похожие на вас во всем — мы и в этом будем похожи (…) Злость, которой вы меня учите, я обращу к вам». Эти слова актер произносит прямо в зал, непосредственно, как личное обвинение. Здесь кончается театр, игры, переодевания, маскарад. Ненадолго, впрочем. Стуруа не передергивает. Уже через мгновение Шейлок скинет пальто «соседа», и снова перед публикой предстанет высокомерный и богатый купец. Все повторится вновь, потому что история как раз описала круг. Спектакль заканчивается так же, как начался. На полу в своем офисе сидит грустный Антонио и медитирует. Офис прост: черно-белый, никаких оттенков серого. Только Антонио на сей раз не один. С ним еврей Шейлок, который тоже размышляет над причинами меланхолии. В глубине менора, слышна поминальная песнь. Свет гаснет, наступают долгожданные сумерки, на мониторах огоньки догорающих свечей. В конце — мрак и тишина, и в этой тишине — кажущееся глухое эхо исторических бурь, происходящих где-то там, далеко. За сценой. Вне театра.