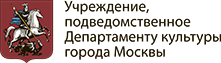09.05.2025
Мемуары артистов-ветеранов читает Александр Калягин
портал "Культура Москвы"
08.05.2025
Александр Калягин: "День Победы для меня – святой праздник"
Мир 24
31.03.2025
Анна Артамонова: "На фронте жизнь ощущается острее"
Татьяна Алексеева ,
Театральная афиша столицы
05.02.2025
"Et Cetera" — мой театральный дом
Татьяна Алексеева ,
Театральная афиша столицы
Пресса
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
2001
2000
1999
Петер Штайн: "Русские от театра просто без ума"
Вольфганг Хёбель, Маттиас Шепп
Der Spiegel ,
20.04.2015
– Господин Штайн, зимой вы поставили на московской сцене драму Пушкина «Борис Годунов». Вы понимаете русских?
– Меня в этом упрекают. В России, в отличие от Германии, я чувствую принципиально уважительное отношение к ценностям. Меня до сих пор спрашивают: «Как тебе удается так хорошо понять русскую душу?» Я всегда отвечаю: «Знаете, русская душа не так уж сильно отличается от других душ. Все остальное вы сами себе придумываете и устраиваете вокруг этого ненужный цирк».
– Сегодня «русская душа» все западное воспринимает в штыки?
– В Москве нет. Никто не может повернуть время вспять. Люди в России не мыслят жизни без западных товаров, западных фильмов, западной культуры. Порой это доходит до абсурда. Тем не менее подавляющее большинство населения поддерживает Путина. И я понимаю, почему. Бесспорно, у Путина есть и большие заслуги, ведь ему удалось сделать так, что хотя бы в крупных городах сформировался своего рода средний класс. Эти люди ходят сегодня по ресторанам, можно сказать, что центр Москвы превратился в один большой ресторан.
Однако аннексия Крыма – нарушение международного права. Все знают, что результат референдума в Крыму был бы положительным, даже если бы он проводился под наблюдением ООН. Только для его проведения требовалось согласие Украины, поскольку Крым – часть украинского государства.
– И как реагируют на это ваши московские собеседники?
– В Москве вы можете говорить все, что считаете нужным. Но часто реакцией собеседника будет механическая ухмылка. Я помню времена Брежнева, когда люди не могли говорить то, что думали. В хаотичные годы при Ельцине люди в Москве вдруг начали открыто спорить друг с другом. При Путине эта открытость исчезла.
– Насколько сильно экономический кризис бьет по вашим российским друзьям в творческих кругах?
– Россия – страна с давней традицией терпения. Терпеть – это своего рода вид спорта. На вопрос, что люди думают о падении рубля, мне отвечали: «Нас это пугает, но мы переживали и худшие времена». Во время работы над «Борисом Годуновым» у меня и моих коллег было тяжелое чувство, что мы с каждым днем обходимся бедному театру все дороже, ведь с нами заключили договоры в евро.
– Насколько опасными вам представляются антизападные заявления политиков?
– Демократия в этой стране еще молода. Приходится опасаться реакции, которая в России может сразу принять катастрофический размах. Еще больше меня тревожит колоссальная путинская программа вооружения. Она обескровит не только экономику, но и культуру. Были даже опасения, что правительство может отменить Международный театральный фестиваль имени Чехова – один из крупнейших в мире.
– За вашу театральную деятельность в России тогдашний президент страны Дмитрий Медведев вручил вам в 2008 году орден Дружбы. Это был акт политической «интеграции»?
– Мне это совершенно безразлично. Я никогда не делаю того, что от меня хотят другие, я делаю только то, что хочу сам. К слову, когда я был с Медведевым на 150‑летии Чехова в Таганроге, он в течение трех часов обсуждал театр. Сомневаюсь, что в Германии найдутся политики, которые так разбираются в театре. Русские от театра просто без ума.
– Когда вы впервые оказались в России?
– В 1974 году с берлинской труппой театра «Шаубюне».
– Насколько свободно вы могли тогда передвигаться по стране?
– Мы планировали добраться до Одессы из Ленинграда через Москву и затем вернуться через Румынию и Турцию. И нам это удалось. Маршрут был точно согласован, за любое отклонение от него нас задерживали – в общей сложности четыре раза. В Ленинграде мы хотели заехать в Петергоф, а оттуда в Ораниенбаум, который находится в 8 км. Но поскольку это был закрытый город, нас окружили военные на автомобилях и под дулами автоматов доставили в тюрьму. Нам намекали, что можно решить вопрос деньгами. Я в то время был страшным упрямцем, еще менее сговорчивым, чем сегодня. В конечном итоге другие заплатили за моей спиной.
– Та поездка была для вас приключением или кошмаром?
– Эта была самая тяжелая поездка в моей жизни. А ведь я очень много путешествовал, в том числе по Африке и Азии. На подъезде к Москве в ветровое стекло нашего BMW попало что-то металлическое. Куда бы мы ни приезжали, сотрудницы гостиниц приходили в отчаяние из-за неправильно оформленных документов. Однажды мы решили заехать в Мелихово, имение Чехова, которое находилось в нескольких километрах восточнее согласованного маршрута. Как только мы свернули, нас сразу же остановили. Мы подумали, что нас задержат в пятый раз. Но вместо этого двое милиционеров сопроводили нас прямо к цели.
– Что вы знали о России до той поездки?
– Когда я был ребенком, «русский Иван», конечно, для нас был врагом. В 1945 году мне было 7 лет. Но, как ни странно, еще на фотографиях, где мне года четыре, я одет в русскую рубаху. Когда я пошел в школу – мне было девять, и я жил в Донауэшингене, – одноклассники с самого начала прозвали меня Петром. Так же позднее меня называли и в вузе – возможно, за мои скулы, точно сказать не могу. Ведь пруссак, если вы меня спросите, на 89% имеет славянские корни, арийское в нем нужно искать под микроскопом.
– И первое знакомство с Россией вызвало у вас восхищение?
– «Восхищение» – это не то слово. Когда я на Западе, меня тянет в Москву. Когда я в Москве, то спрашиваю себя: а что я вообще здесь делаю? Это связано с «эффектом Обломова». В Москве человек устает. Я вижу это по всем своим друзьям и знакомым. Никто не может противиться обломовскому сну.
– Тем не менее спустя всего год после первой поездки вы снова поехали в Москву.
– Потому что тогда, в 1975 году, я получил официальное приглашение. И я обнаружил, что буржуазия, о которой повествует Чехов, отнюдь не была сметена революциями, как нам всегда рассказывали. Люди сидели по дачам, как чеховские герои, спорили, как чеховские герои, и пили, как чеховские герои.
– Вам тогда обещали, что вы сможете что-то поставить на московских сценах?
– Меня приглашали работать в Москве, в театре «Современник». Я отвечал: «Я не могу что-то поставить в стране, где мне нельзя говорить то, что я думаю». В 1986 году, как только началась перестройка, мне вдруг стали звонить из Москвы. Меня убеждали: «Теперь ты сможешь сказать все, что угодно!» Я предложил поставить «Орестею». В ответ я услышал: «Русские не умеют играть античную трагедию. Античная трагедия противоречит их природе. Тебе придется собирать свой хор из двенадцати мужчин и двенадцати женщин по всем уголкам CCCР». Именно такую дружбу народов предписывало советское государство. Так что каждый год меня куда-то посылали: в Петрозаводск, в Иркутск, в Улан-Удэ, ну чуть ли не на край света. В Тбилиси из окна гостиничного номера я видел, как на асфальт брызгали мозги демонстрантов‑националистов. Омоновцы били людей по головам саперными лопатами, по старому русскому принципу – не тратить порох впустую. На следующий день по пути в Ереван нас забросали камнями.
– Почему для Москвы вы выбрали именно «Орестею»?
– Потому что она рассказывает о формировании правовой системы. Ни до, ни после я никогда не ставил вещей, которые находились бы в такой непосредственной связи с временем. И русские тогда это поняли.
– Вас интересовали российские театры в те бурные времена?
– Нет, мне были интересны только актеры. Актрисы еще делали себе пышные прически, напоминавшие птичьи гнезда. И они играли с такой эмоциональностью, какую можно представить себе только на Востоке. Это было совершенно невыносимое преувеличение, то самое, которое обличал еще Чехов, чудовищное до жути! Но через три четверти часа я, как правило, капитулировал: актеры играли поистине экзистенциально. Зритель верил: эта женщина действительно умирает! Люди проникались игрой. Вы в целом мире не найдете никакой другой актерской культуры, даже в Америке, которая в той же мере работала бы с сопереживанием, как это делают русские.
– Еще до того, как в начале 1994 года наконец-то состоялась премьера «Орестеи», вы в 1989 году приезжали с гастролями труппы «Шаубюне» и давали в Москве «Трех сестер». Каким вам запомнился тот триумфальный показ?
– Это был самый потрясающий театральный опыт в моей жизни. Мы играли на сцене Художественного театра, в зале на 990 мест, при этом на спектакль пришли 1500 человек. Десятки зрителей сидели слева и справа на сцене, в проходах. Когда были произнесены последние слова пьесы – «Если бы знать, если бы знать», знаменитый занавес с чайкой закрылся. Ни звука. Никаких аплодисментов. Актеры смотрят на меня, я смотрю в зал через щель в занавесе. Никакого эффекта. Занавес открывается, мы кланяемся. Все еще никаких аплодисментов. Тогда я говорю: «Свет в зале!» И как только свет в зале включается, мы видим: зрители – все – ревут как дети. Это продолжается как минимум пять минут. Потом постепенно стали раздаваться аплодисменты. И они не смолкали сорок пять минут.
– Когда в 1993 году вы репетировали «Орестею», в Москве за власть боролись путчисты-реакционеры и верные Ельцину силы. Это правда, что вы тогда оказались в эпицентре беспорядков?
– Когда я приземлился в аэропорту, все уже были ужасно взволнованны. По телевизору показывали выпуск новостей; за спиной ведущего появился мрачный тип с автоматом Калашникова, после чего экран погас. Телецентр «Останкино» захватили. Все иностранцы с Запада, находившиеся в Москве, включая моих коллег по художественному цеху, тут же улетели домой. Я был единственным, кто остался. Потом меня объявили героем. Но я никакой не герой: я семь лет боролся за этот проект, и что – мне нужно было сдаться из-за каких-то выстрелов на улице? Нет, так не пойдет. По пути в квартиру, где я должен быть жить и которая, к сожалению, находилась довольно-таки близко к «Останкино», наш автомобиль попал под автоматный обстрел. Тогда водитель дал задний ход, и мы поехали другой дорогой. На следующее утро Ельцин распорядился расстрелять Белый дом. Но я поехал на репетицию в театр. Перед актерами я произнес целую речь с призывом репетировать еще интенсивнее, поскольку это была единственная возможность хоть как-то отреагировать на ситуацию.
– После «Гамлета» в 1998 году и работы в оперном театре вы показываете пушкинского «Бориса Годунова», где описывается борьба за царский престол на рубеже XVI и XVII веков.
– Эта пьеса высвечивает все проблемы российской политики. Сегодня мы обсуждаем, удержится ли господин Путин у власти; разумеется, в этом можно усмотреть параллель с Борисом Годуновым, который тоже пытался сохранить власть.
– Соответствие сюжета актуальной политической ситуации объясняется вашим подходом?
– Только не начинайте – это просто смешно. Меня заботят более важные вещи: как передать то, что заложено в тексте? Я не творец, я исполнитель. Интерпретатор.
– Разве театральный деятель, пусть даже режиссер, не обязан занимать определенную политическую позицию?
– От человека искусства этого вообще нельзя требовать. Театр – удовольствие дорогое, поэтому я считаю, что деятель театра должен отдавать себе отчет, на что он тратит такие деньги. Но нельзя связывать человека искусства по рукам и ногам, как это делалось в Советском Союзе, – дескать, ты должен делать то, что приносит пользу народу. В действительности то, что якобы не приносит народу никакой пользы, может оказаться очень даже полезным. Главная тема «Бориса Годунова» – власть. Как ее получают, сохраняют, теряют. В пьесе показан квартет власти: царь, генерал, патриарх, советник царя по экономике, который всем заправляет. Это легко можно перенести на нынешние российские реалии, но такие сравнения – это уже задача зрителя.
– Разве, ставя «Годунова» в России в 2015 году, вы не должны были занять четкую позицию, например, по вопросу о подавлении свободы искусства? Ведь оппозиционные деятели театра подвергаются травле?
– Тенденция к закручиванию гаек есть, даже если 40 лет назад свобода искусства ограничивалась куда сильнее. Но ведь тема несвободы искусства в «Борисе» отсутствует. Пушкин показывает искусного политика, достигшего власти ценой преступлений и ставшего блестящим правителем. Он был хорошим царем, и все же он не смог заручиться прочной поддержкой народа. Незадолго до его смерти о нем говорят: он хотел для России только самого лучшего. В этом его трагедия. Без преступления власть получить невозможно – это старый закон. Так было еще в древних мифах, и нет ни одного государства, начиная с Афин и заканчивая Ромулом и Ремом, в основании которого не лежало бы преступление.
– Для современного российского зрителя такой тезис отдает фатализмом.
– «Годунов» богаче. Он не оставляет у зрителя уверенности в чем бы то ни было. Пушкин показывает, что поведение народа противоречиво от начала и до конца. Сначала народ говорит: нам нужен сильный царь. Он молит Бориса взойти на трон и, когда того венчают на царство, кричит: «Да здравствует Борис». Позднее «Да здравствует» кричат уже его противнику. Но в самом конце, когда провозглашают нового царя, народ безмолвствует. Это гениально. Драма заканчивается тем, что народ сбивается в молчащую, боязливую толпу. Так же люди ведут себя и сегодня. Как бы ни менялись политтехнологии и системы, в людских головах и в культурных традициях изменений немного.
– Как вы относитесь к политическим заявлениям своих коллег вне рамок творчества? Так, дирижер Валерий Гергиев с воодушевлением поддерживает Путина, оперная певица Анна Нетребко позирует на фоне флага пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
– Это никак не связано с искусством. Я очень хорошо знаю Гергиева. Он занял очень четкую позицию. Это действительно сторонник Путина, опасный тип в политическом плане. В плане творчества что-то ему удается очень хорошо, а что-то очень плохо, поскольку он слишком за многое берется. Но разве можно возражать против того, чтобы он стал главным дирижером Мюнхенской филармонии, только из-за его политических убеждений? А кто остальные люди, которые работают там? Или вы предлагаете проинструктировать каждого сотрудника филармонии, каких политических взглядов он должен придерживаться? То, что делает Гергиев в политике, для меня ужасно, и я считаю, что Анна Нетребко не права. Но я против любой политической цензуры.
– В театре тоже есть мода. Возможно, более молодое поколение театральных деятелей по-новому оценивает ваше творчество?
– Мода однозначно существует. Иначе мне можно было бы застрелиться. За свою театральную жизнь я тоже поддавался тем или иным веяниям моды. И поддаюсь им до сих пор. Но я в полной мере осознаю то, что делаю. Возможно, потому, что боюсь потерять себя. Я никогда не был революционером в искусстве. Я всегда хранил и храню верность автору. В моем представлении режиссер должен разъяснять актерам те моменты, которые они сами понять не могут. Классики потому и классики, что они всегда актуальны. Я постараюсь так или иначе все же реализовать те проекты, которые я себе наметил, – «Волшебную флейту», новую версию «Парка» Бото Штрауса в Риме. Я упрямый. И я бы хотел, чтобы у меня и дальше была возможность делать постановки.
– Меня в этом упрекают. В России, в отличие от Германии, я чувствую принципиально уважительное отношение к ценностям. Меня до сих пор спрашивают: «Как тебе удается так хорошо понять русскую душу?» Я всегда отвечаю: «Знаете, русская душа не так уж сильно отличается от других душ. Все остальное вы сами себе придумываете и устраиваете вокруг этого ненужный цирк».
– Сегодня «русская душа» все западное воспринимает в штыки?
– В Москве нет. Никто не может повернуть время вспять. Люди в России не мыслят жизни без западных товаров, западных фильмов, западной культуры. Порой это доходит до абсурда. Тем не менее подавляющее большинство населения поддерживает Путина. И я понимаю, почему. Бесспорно, у Путина есть и большие заслуги, ведь ему удалось сделать так, что хотя бы в крупных городах сформировался своего рода средний класс. Эти люди ходят сегодня по ресторанам, можно сказать, что центр Москвы превратился в один большой ресторан.
Однако аннексия Крыма – нарушение международного права. Все знают, что результат референдума в Крыму был бы положительным, даже если бы он проводился под наблюдением ООН. Только для его проведения требовалось согласие Украины, поскольку Крым – часть украинского государства.
– И как реагируют на это ваши московские собеседники?
– В Москве вы можете говорить все, что считаете нужным. Но часто реакцией собеседника будет механическая ухмылка. Я помню времена Брежнева, когда люди не могли говорить то, что думали. В хаотичные годы при Ельцине люди в Москве вдруг начали открыто спорить друг с другом. При Путине эта открытость исчезла.
– Насколько сильно экономический кризис бьет по вашим российским друзьям в творческих кругах?
– Россия – страна с давней традицией терпения. Терпеть – это своего рода вид спорта. На вопрос, что люди думают о падении рубля, мне отвечали: «Нас это пугает, но мы переживали и худшие времена». Во время работы над «Борисом Годуновым» у меня и моих коллег было тяжелое чувство, что мы с каждым днем обходимся бедному театру все дороже, ведь с нами заключили договоры в евро.
– Насколько опасными вам представляются антизападные заявления политиков?
– Демократия в этой стране еще молода. Приходится опасаться реакции, которая в России может сразу принять катастрофический размах. Еще больше меня тревожит колоссальная путинская программа вооружения. Она обескровит не только экономику, но и культуру. Были даже опасения, что правительство может отменить Международный театральный фестиваль имени Чехова – один из крупнейших в мире.
– За вашу театральную деятельность в России тогдашний президент страны Дмитрий Медведев вручил вам в 2008 году орден Дружбы. Это был акт политической «интеграции»?
– Мне это совершенно безразлично. Я никогда не делаю того, что от меня хотят другие, я делаю только то, что хочу сам. К слову, когда я был с Медведевым на 150‑летии Чехова в Таганроге, он в течение трех часов обсуждал театр. Сомневаюсь, что в Германии найдутся политики, которые так разбираются в театре. Русские от театра просто без ума.
– Когда вы впервые оказались в России?
– В 1974 году с берлинской труппой театра «Шаубюне».
– Насколько свободно вы могли тогда передвигаться по стране?
– Мы планировали добраться до Одессы из Ленинграда через Москву и затем вернуться через Румынию и Турцию. И нам это удалось. Маршрут был точно согласован, за любое отклонение от него нас задерживали – в общей сложности четыре раза. В Ленинграде мы хотели заехать в Петергоф, а оттуда в Ораниенбаум, который находится в 8 км. Но поскольку это был закрытый город, нас окружили военные на автомобилях и под дулами автоматов доставили в тюрьму. Нам намекали, что можно решить вопрос деньгами. Я в то время был страшным упрямцем, еще менее сговорчивым, чем сегодня. В конечном итоге другие заплатили за моей спиной.
– Та поездка была для вас приключением или кошмаром?
– Эта была самая тяжелая поездка в моей жизни. А ведь я очень много путешествовал, в том числе по Африке и Азии. На подъезде к Москве в ветровое стекло нашего BMW попало что-то металлическое. Куда бы мы ни приезжали, сотрудницы гостиниц приходили в отчаяние из-за неправильно оформленных документов. Однажды мы решили заехать в Мелихово, имение Чехова, которое находилось в нескольких километрах восточнее согласованного маршрута. Как только мы свернули, нас сразу же остановили. Мы подумали, что нас задержат в пятый раз. Но вместо этого двое милиционеров сопроводили нас прямо к цели.
– Что вы знали о России до той поездки?
– Когда я был ребенком, «русский Иван», конечно, для нас был врагом. В 1945 году мне было 7 лет. Но, как ни странно, еще на фотографиях, где мне года четыре, я одет в русскую рубаху. Когда я пошел в школу – мне было девять, и я жил в Донауэшингене, – одноклассники с самого начала прозвали меня Петром. Так же позднее меня называли и в вузе – возможно, за мои скулы, точно сказать не могу. Ведь пруссак, если вы меня спросите, на 89% имеет славянские корни, арийское в нем нужно искать под микроскопом.
– И первое знакомство с Россией вызвало у вас восхищение?
– «Восхищение» – это не то слово. Когда я на Западе, меня тянет в Москву. Когда я в Москве, то спрашиваю себя: а что я вообще здесь делаю? Это связано с «эффектом Обломова». В Москве человек устает. Я вижу это по всем своим друзьям и знакомым. Никто не может противиться обломовскому сну.
– Тем не менее спустя всего год после первой поездки вы снова поехали в Москву.
– Потому что тогда, в 1975 году, я получил официальное приглашение. И я обнаружил, что буржуазия, о которой повествует Чехов, отнюдь не была сметена революциями, как нам всегда рассказывали. Люди сидели по дачам, как чеховские герои, спорили, как чеховские герои, и пили, как чеховские герои.
– Вам тогда обещали, что вы сможете что-то поставить на московских сценах?
– Меня приглашали работать в Москве, в театре «Современник». Я отвечал: «Я не могу что-то поставить в стране, где мне нельзя говорить то, что я думаю». В 1986 году, как только началась перестройка, мне вдруг стали звонить из Москвы. Меня убеждали: «Теперь ты сможешь сказать все, что угодно!» Я предложил поставить «Орестею». В ответ я услышал: «Русские не умеют играть античную трагедию. Античная трагедия противоречит их природе. Тебе придется собирать свой хор из двенадцати мужчин и двенадцати женщин по всем уголкам CCCР». Именно такую дружбу народов предписывало советское государство. Так что каждый год меня куда-то посылали: в Петрозаводск, в Иркутск, в Улан-Удэ, ну чуть ли не на край света. В Тбилиси из окна гостиничного номера я видел, как на асфальт брызгали мозги демонстрантов‑националистов. Омоновцы били людей по головам саперными лопатами, по старому русскому принципу – не тратить порох впустую. На следующий день по пути в Ереван нас забросали камнями.
– Почему для Москвы вы выбрали именно «Орестею»?
– Потому что она рассказывает о формировании правовой системы. Ни до, ни после я никогда не ставил вещей, которые находились бы в такой непосредственной связи с временем. И русские тогда это поняли.
– Вас интересовали российские театры в те бурные времена?
– Нет, мне были интересны только актеры. Актрисы еще делали себе пышные прически, напоминавшие птичьи гнезда. И они играли с такой эмоциональностью, какую можно представить себе только на Востоке. Это было совершенно невыносимое преувеличение, то самое, которое обличал еще Чехов, чудовищное до жути! Но через три четверти часа я, как правило, капитулировал: актеры играли поистине экзистенциально. Зритель верил: эта женщина действительно умирает! Люди проникались игрой. Вы в целом мире не найдете никакой другой актерской культуры, даже в Америке, которая в той же мере работала бы с сопереживанием, как это делают русские.
– Еще до того, как в начале 1994 года наконец-то состоялась премьера «Орестеи», вы в 1989 году приезжали с гастролями труппы «Шаубюне» и давали в Москве «Трех сестер». Каким вам запомнился тот триумфальный показ?
– Это был самый потрясающий театральный опыт в моей жизни. Мы играли на сцене Художественного театра, в зале на 990 мест, при этом на спектакль пришли 1500 человек. Десятки зрителей сидели слева и справа на сцене, в проходах. Когда были произнесены последние слова пьесы – «Если бы знать, если бы знать», знаменитый занавес с чайкой закрылся. Ни звука. Никаких аплодисментов. Актеры смотрят на меня, я смотрю в зал через щель в занавесе. Никакого эффекта. Занавес открывается, мы кланяемся. Все еще никаких аплодисментов. Тогда я говорю: «Свет в зале!» И как только свет в зале включается, мы видим: зрители – все – ревут как дети. Это продолжается как минимум пять минут. Потом постепенно стали раздаваться аплодисменты. И они не смолкали сорок пять минут.
– Когда в 1993 году вы репетировали «Орестею», в Москве за власть боролись путчисты-реакционеры и верные Ельцину силы. Это правда, что вы тогда оказались в эпицентре беспорядков?
– Когда я приземлился в аэропорту, все уже были ужасно взволнованны. По телевизору показывали выпуск новостей; за спиной ведущего появился мрачный тип с автоматом Калашникова, после чего экран погас. Телецентр «Останкино» захватили. Все иностранцы с Запада, находившиеся в Москве, включая моих коллег по художественному цеху, тут же улетели домой. Я был единственным, кто остался. Потом меня объявили героем. Но я никакой не герой: я семь лет боролся за этот проект, и что – мне нужно было сдаться из-за каких-то выстрелов на улице? Нет, так не пойдет. По пути в квартиру, где я должен быть жить и которая, к сожалению, находилась довольно-таки близко к «Останкино», наш автомобиль попал под автоматный обстрел. Тогда водитель дал задний ход, и мы поехали другой дорогой. На следующее утро Ельцин распорядился расстрелять Белый дом. Но я поехал на репетицию в театр. Перед актерами я произнес целую речь с призывом репетировать еще интенсивнее, поскольку это была единственная возможность хоть как-то отреагировать на ситуацию.
– После «Гамлета» в 1998 году и работы в оперном театре вы показываете пушкинского «Бориса Годунова», где описывается борьба за царский престол на рубеже XVI и XVII веков.
– Эта пьеса высвечивает все проблемы российской политики. Сегодня мы обсуждаем, удержится ли господин Путин у власти; разумеется, в этом можно усмотреть параллель с Борисом Годуновым, который тоже пытался сохранить власть.
– Соответствие сюжета актуальной политической ситуации объясняется вашим подходом?
– Только не начинайте – это просто смешно. Меня заботят более важные вещи: как передать то, что заложено в тексте? Я не творец, я исполнитель. Интерпретатор.
– Разве театральный деятель, пусть даже режиссер, не обязан занимать определенную политическую позицию?
– От человека искусства этого вообще нельзя требовать. Театр – удовольствие дорогое, поэтому я считаю, что деятель театра должен отдавать себе отчет, на что он тратит такие деньги. Но нельзя связывать человека искусства по рукам и ногам, как это делалось в Советском Союзе, – дескать, ты должен делать то, что приносит пользу народу. В действительности то, что якобы не приносит народу никакой пользы, может оказаться очень даже полезным. Главная тема «Бориса Годунова» – власть. Как ее получают, сохраняют, теряют. В пьесе показан квартет власти: царь, генерал, патриарх, советник царя по экономике, который всем заправляет. Это легко можно перенести на нынешние российские реалии, но такие сравнения – это уже задача зрителя.
– Разве, ставя «Годунова» в России в 2015 году, вы не должны были занять четкую позицию, например, по вопросу о подавлении свободы искусства? Ведь оппозиционные деятели театра подвергаются травле?
– Тенденция к закручиванию гаек есть, даже если 40 лет назад свобода искусства ограничивалась куда сильнее. Но ведь тема несвободы искусства в «Борисе» отсутствует. Пушкин показывает искусного политика, достигшего власти ценой преступлений и ставшего блестящим правителем. Он был хорошим царем, и все же он не смог заручиться прочной поддержкой народа. Незадолго до его смерти о нем говорят: он хотел для России только самого лучшего. В этом его трагедия. Без преступления власть получить невозможно – это старый закон. Так было еще в древних мифах, и нет ни одного государства, начиная с Афин и заканчивая Ромулом и Ремом, в основании которого не лежало бы преступление.
– Для современного российского зрителя такой тезис отдает фатализмом.
– «Годунов» богаче. Он не оставляет у зрителя уверенности в чем бы то ни было. Пушкин показывает, что поведение народа противоречиво от начала и до конца. Сначала народ говорит: нам нужен сильный царь. Он молит Бориса взойти на трон и, когда того венчают на царство, кричит: «Да здравствует Борис». Позднее «Да здравствует» кричат уже его противнику. Но в самом конце, когда провозглашают нового царя, народ безмолвствует. Это гениально. Драма заканчивается тем, что народ сбивается в молчащую, боязливую толпу. Так же люди ведут себя и сегодня. Как бы ни менялись политтехнологии и системы, в людских головах и в культурных традициях изменений немного.
– Как вы относитесь к политическим заявлениям своих коллег вне рамок творчества? Так, дирижер Валерий Гергиев с воодушевлением поддерживает Путина, оперная певица Анна Нетребко позирует на фоне флага пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
– Это никак не связано с искусством. Я очень хорошо знаю Гергиева. Он занял очень четкую позицию. Это действительно сторонник Путина, опасный тип в политическом плане. В плане творчества что-то ему удается очень хорошо, а что-то очень плохо, поскольку он слишком за многое берется. Но разве можно возражать против того, чтобы он стал главным дирижером Мюнхенской филармонии, только из-за его политических убеждений? А кто остальные люди, которые работают там? Или вы предлагаете проинструктировать каждого сотрудника филармонии, каких политических взглядов он должен придерживаться? То, что делает Гергиев в политике, для меня ужасно, и я считаю, что Анна Нетребко не права. Но я против любой политической цензуры.
– В театре тоже есть мода. Возможно, более молодое поколение театральных деятелей по-новому оценивает ваше творчество?
– Мода однозначно существует. Иначе мне можно было бы застрелиться. За свою театральную жизнь я тоже поддавался тем или иным веяниям моды. И поддаюсь им до сих пор. Но я в полной мере осознаю то, что делаю. Возможно, потому, что боюсь потерять себя. Я никогда не был революционером в искусстве. Я всегда хранил и храню верность автору. В моем представлении режиссер должен разъяснять актерам те моменты, которые они сами понять не могут. Классики потому и классики, что они всегда актуальны. Я постараюсь так или иначе все же реализовать те проекты, которые я себе наметил, – «Волшебную флейту», новую версию «Парка» Бото Штрауса в Риме. Я упрямый. И я бы хотел, чтобы у меня и дальше была возможность делать постановки.