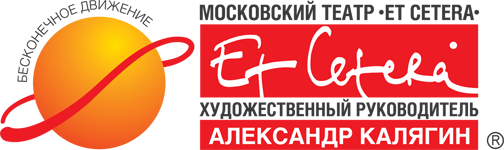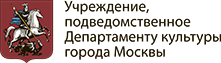10.06.2024
«В театре возможно все, кроме пошлости и скуки»
Дарья Долинина ,
"Комсомольская правда. Самара"
01.03.2024
Наталья Баландина: "Каждая роль - это подарок"
Татьяна Алексеева ,
Театральная афиша столицы
21.01.2024
Новости культуры с Владиславом Флярковским: режиссер Ичэнь Лю о премьере "Чайной"
Телеканал "Россия-Культура"
13.01.2024
Программа "Слушаем! Мужской разговор" на "Радио России" с участием Александра Калягина
Радио России
Пресса
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
2001
2000
1999
Лицедей
Андрей Ванденко
«Итоги» ,
12.11.2012
Александр Калягин — о безотцовщине и еврейской маме, которой можно было ставить памятник при жизни, о новогодней ночи в «скорой помощи» и «Старом Новом годе» во МХАТе, о чем писал Олегу Ефремову и за что получал на орехи от Юрия Любимова, а также о безжалостно раздавленной скрипке и политых слезами колбасных обрезках Внешность обманчива. Это и о нем сказано, о Сан Саныче Калягине. Со стороны посмотришь: милый человек, круглый, гладкий, мягкий, местами даже пушистый, а прикоснешься — камень-кремень. Как бы иначе столько лет возглавлял Союз театральных деятелей России, умудряясь избегать публичного полоскания чужого грязного белья и прочих шумных разборок, присущих большинству творческих объединений? И театр «Et Cetera», которым руководит с первого дня, едва ли создал бы. Кнут и пряник — Калягин умеет пользоваться и тем и другим… — Безотцовщина — клеймо на всю жизнь, Сан Саныч? — Зачем сразу так жестко? Случилось. Понимаешь? Так случилось! Другой вопрос, хотел бы я иметь отца? Конечно! О чем разговор? Но это сегодня отвечаю твердо и уверенно, а когда был маленьким, совершенно не нуждался в папе. Мама заменяла мне все и вся… Настоящая еврейская мать. А по отцу я русский. Он присутствовал в моей жизни незримо — на семейных фото и в маминых воспоминаниях. Я не ощущал себя обездоленным, мне попросту не с чем было сравнивать. Папа работал ректором Московского областного педагогического института имени Крупской и параллельно — деканом исторического факультета. Мама заведовала кафедрой французского языка филфака. В МОПИ они и познакомились. Мог бы сказать: служебный роман, но мало знаю об их отношениях. Читал лишь папины письма, адресованные маме в роддом. Над ними можно плакать. Как отец старался успокоить маму, поддержать ее, как они вместе выбирали имя. Александр — победитель, защитник… Правда, в семье меня звали Аличкой. Когда началась Великая Отечественная война, МОПИ эвакуировали из Москвы в Кировскую область, в город Малмыж. Там папа и умер. Попросту надорвался. Надо было разместить студентов на постой, распределить по избам, хоть как-то наладить учебный процесс… Все произошло внезапно, практически мгновенно. Я физически не могу этого помнить, поскольку в то время был совсем маленьким. Знаю все в пересказе мамы. Как среди ночи почувствовала, что папе плохо, вскочила с кровати, подбежала, но не смогла ничем помочь… Кровоизлияние в мозг и моментальная остановка сердца. Лет пять назад я съездил в те места. Сначала хотел вместе с мамой — не успел. Потом с тетей собирался — тот же результат. В итоге отправился один. Страшно боялся: вдруг эмоции нахлынут, накроют с головой… Меня сопровождали сотрудники местного краеведческого музея. Пошли на кладбище с развалившейся церковью, которую сейчас восстанавливают, я увидел могилку отца… Не знаю, можно ли считать катарсисом потрясение от зрелища того, как живут люди? Будто за последние семьдесят лет ничего не изменилось!.. Так вот о безотцовщине. Моим воспитанием плотно занималась еврейская родня по маминой линии. Там была сплошь интеллигенция — профессура, преподаватели вузов, ученые… От меня многое скрывали, растили в атмосфере благолепия и прекраснодушия. Много позже узнал, что брак с папой был у мамы вторым. В первый раз она вышла замуж неудачно, избранник оказался пьющим, у нее случился выкидыш. Это рассказала моя обожаемая тетя Фаня. Проболталась ненароком или по глупости. И вот однажды, поссорившись с мамой (а ссоры у нас случались бурные, горячие), я гневно бросил ей в лицо: «Мне все известно! Ты была замужем! И хотела родить другого ребенка! Не меня!» Она грустно-грустно смотрела на обожаемого Аличку, которого выносила в сорок лет, и молчала. Потом пришла тетя Фаня. Мама сказала ей: «Ты конченая дура, да? Голова не варит? Нашла, кому и что говорить! Он же ни черта не понимает, но твои бредни запомнит!» — Сколько вам было в ту пору? — Десять или одиннадцать… Мама всю жизнь обижалась, считая, что я недостаточно ценю сделанное ею. Пожалуй, понять маму можно. Решиться родить, когда тебе уже сорок, а за окном война… Перед эвакуацией мама пошла к врачу, и тот сказал: «Больше забеременеть не сможете, это ваш последний шанс». Надо ли говорить, что с единственного чада сдували пылинки, холили и лелеяли? Мамина любовь была фанатична, даже патологична. Жили мы после возвращения в Москву не шикарно. Зарплаты не хватало, мама преподавала в институте, а после лекций до ночи давала частные уроки французского. Работала очень много, но старалась не спускать с меня глаз. В детстве я был тяжелым клиентом. Не скажу, что сейчас со мной легко, с годами характер в лучшую сторону не меняется, однако раньше я вел себя совершенно невыносимо. Другого такого неуживчивого, строптивого и обидчивого надо было поискать! Как мама выдерживала? За долготерпение ей следовало при жизни ставить памятник. Если я получал двойку на первом уроке, разворачивался и уходил из школы. Прогуливал оставшиеся занятия. Мне казалось, что одноклассники смотрят в мою сторону с жалостью, а я терпеть не мог, когда жалеют. Выворачивало наизнанку! В пятом классе нашу мальчиковую школу объединили с женской. Атмосфера сразу изменилась, к новой обстановке нужно было привыкнуть. В присутствии девочек я зажался еще сильнее, ушел в себя, спрятался в скорлупку, откуда меня старались выковырять… Спасался в своем придуманном мире. Лет в семь упросил маму, и она нашла столяра, который на заказ сделал игрушечный театр — с портиком, кулисами, сценой…. Я звал соседских мальчишек из нашей коммуналки на одиннадцать комнат, усаживал на пол, открывал занавес, и начиналось представление. Мамины бусы превращались в хищную змею, шкатулка с бижутерией — в сундук с сокровищами, чайная чашка — в карету… Я долго хранил этот театр, пока не потерял при очередном переезде из квартиры в квартиру. То, что место для строительства «Et Cetera» выделили именно здесь, знак судьбы, провидение. Не верил, что так может быть. Мне же тут все дворы и подворотни знакомы с раннего детства! Порой сижу на сцене в ожидании, пока зрители займут места в зале после третьего звонка, смотрю на подкладку занавеса и отчетливо вижу кулисы моего детского театра. Тот же теплый красный цвет, даже малейшие оттенки совпадают… «Et Cetera» продлил мою творческую жизнь. Оставаться во МХАТе после ухода Ефремова я не мог, мне нечего было там делать. Отдаляться от Художественного театра я начал еще при Олеге Николаевиче, ушел на договор, формально перестал числиться в труппе. Ефремов болел, слабел, я видел, как великий МХАТ разлагается, распадается на куски, и не хотел в этом участвовать, поскольку знавал и другие времена. По счастью, курс, который я вел в Щукинском училище, подсказал мне идею создания собственного театра. Так мы и сделали. — Стоп, стоп, Саныч Саныч! Вы убежали слишком далеко вперед. — А тебе хочется еще покопаться в том, каким трудным ребенком я был? Нутром чувствовал, что меня сильно любят, и пользовался этим, без зазрения совести садясь маме на голову. Родня жалела ее, говорила, что Юлечке дико не повезло, достался не сын, а сплошное недоразумение. Тетя Фаня однажды даже бросила в сердцах: «Лучше бы его трамваем задавило!» Помню, подрался с соседским мальчишкой, обозвавшим меня жидом. Что означает слово, я не знал, но тон мне не понравился. Пацан был старше и сильнее, а я злее и бесшабашнее. В драку вмешалась няня обидчика, вызвала милицию. Нас с мамой оштрафовали на большую по тем временам сумму. Несправедливость мироустройства поразила меня в самое сердце… Не забуду, как в семь лет стоял у распахнутой форточки и жадно глотал ртом холодный воздух. Мама умоляла: «Алик, на улице сильный мороз. Закрой окно и отойди. Простудишься!» А я кричал в ответ: «Лучше умереть, чем жить с тобой!» Откуда бралась подобная жестокость? У меня был абсолютный музыкальный слух, и три года я учился игре на скрипке. Не повезло с педагогом: он больно бил смычком по пальцам, если я случайно ошибался и путал ноту. Знаешь, есть обиженные на весь мир евреи, они ничем и никогда не бывают довольны. Вот именно такой мне и достался. Как же я с ним намучился! Один раз довел меня до слез, второй… Наконец мое терпение лопнуло, я возненавидел скрипку и начал прогуливать уроки — шел в цирк или в кино. Мама спрашивала: «Аличка, ты занимаешься?» Я нагло врал в ответ. Она заподозрила неладное, устроила проверку, оставив в футляре бумажку, которая обязательно выпала бы, если бы я достал скрипку. Мать плакала, слушая, как вдохновенно я лгу. Очевидно, ложь — сестра лицедейства... Другой бы стал оправдываться, извиняться, просить прощения, а я после очередной ссоры дождался ухода мамы и со всего маху плюхнулся сверху на скрипку. Сел задницей на футляр. Внутри жалобно затрещала дека, хрустнул и сломался гриф, заныли струны… Я ровным счетом ничего не почувствовал — ни страха, ни раскаяния. Только где-то в глубине клокотала ненависть. Посидел минутку, удостоверился, что враг окончательно повержен и больше не трепыхается, после чего ногой запихнул футляр с жалкими останками под огромный комод, стоявший в нашей комнате. Мама быстро хватилась пропажи, стала допытываться: «Алик, где скрипка?» Я молчал как партизан, ни в чем не признавался. Потом мама нашла обломки… Был еще один позорный эпизод, связанный с музыкой. На вступительных экзаменах в Щепкинское училище меня попросили спеть «Подмосковные вечера». Для человека с хорошим слухом не придумать задания элементарнее. Я же зафальшивил с первой ноты. Чувствовал, что безбожно перевираю мелодию, но не мог остановиться, продолжал заливаться соловьем. Наконец кто-то из преподавателей не выдержал: «Достаточно, молодой человек. Вы свободны». Меня отправили домой с третьего тура творческого конкурса! При этом я без конца лицедействовал, всегда стремился к этому! Термин «перевоплощение» услышал в зрелом возрасте, а в детстве, не слишком задумываясь над тем, что делаю, изображал, копировал, пародировал… Особенно мне удавалась роль униженного и оскорбленного. Так проникался, что начинал верить в реальность происходящего. Вот клянусь, плакал от обиды! Если утром не хотел идти в школу, говорил маме, что болит живот. И мне действительно становилось плохо! Вплоть до колик и расстройства желудка. Мама тут же укладывала меня в кровать и с тревогой протягивала градусник. Я, постанывая, говорил: «Не сейчас… Дай отдышаться…» А параллельно словно разглядывал себя со стороны: убедительно ли играю? Мне нужно было все превратить в шоу. Потом, правда, реже имитировал болезни. Из элементарного опасения накликать беду. А то ведь вот так войдешь в образ умирающего и не успеешь выйти… Главное, я убедился в способности заставить любого поверить в свою игру. — К этому моменту вы уже успели пообщаться с Аркадием Райкиным? — Если строго придерживаться хронологии, сначала в моей жизни появился Чарли Чаплин. В семь лет впервые увидел картину с его участием. Если бы возле моего уха разорвалась бомба, не заметил бы. Не отрываясь, смотрел на экран, откуда мне улыбался Чаплин… Оказалось, можно быть смешным и печальным одновременно, а неуклюжесть и неловкость превращать в достоинство, фирменный знак. Ошеломляющий эффект, настоящий сдвиг сознания! Я пересмотрел все фильмы Чаплина, которые показывали на советском экране. А уже потом был Аркадий Исаакович. Время от времени он выступал в Центральном доме культуры железнодорожников на Комсомольской или в старом Театре эстрады на Маяковской, я караулил его концерты и проникал на них правдами и неправдами. Билетеры узнавали меня в лицо и пропускали бесплатно. По понятным причинам написать письмо Чаплину я не мог, а обратиться к Райкину отважился. Что-то такое по-детски наивное, мол, хочу стать артистом, посоветуйте, что для этого сделать. Думаю, Аркадий Исаакович получал подобные послания десятками, но мне почему-то ответил, на двух страницах без менторства и снобизма растолковал, что залог успеха — трудолюбие. До сих пор храню те пожелтевшие листки как бесценную реликвию. Если хочешь, покажу потом… Мама была мудрой женщиной, она бережно меня поддержала. И к поступлению в медицинское училище подтолкнула, поскольку понимала, что конфликты в школе будут лишь усугубляться и я не выживу в обстановке постоянной вражды. Это оказался абсолютно правильный ход. Не скажу, будто мне удалось добиться выдающихся успехов в изучении анатомии или физиологии, но я аккуратно переходил с курса на курс, активно участвуя в художественной самодеятельности и защищая на различных смотрах честь родного учебного заведения. Нет, без особой нужды я не прогуливал занятия, более того, два педагога произвели на меня ошеломляющее впечатление. Преподаватель истории, внешне напоминавший писателя Эренбурга — такой же высокий, худой, остроносый, с всклокоченными волосами. Он рассказывал то, о чем не писали в советских учебниках. О русских князьях, с удовольствием выступавших на стороне монголо-татар против соплеменников, о начале Великой Отечественной и неготовности нашей армии к войне. Столь же сильное потрясение, правда, по иным причинам, я испытал на лекциях по акушерству и гинекологии. Вспомни себя семнадцатилетнего — и поймешь мое состояние. Особенно если учесть, что курс вела аппетитная блондинка, такая, знаешь, мечта поэта. Иногда она объявляла: «Сегодня остаются мальчики, девочек прошу покинуть аудиторию». Закрывала дверь и полтора часа на доходчивом языке растолковывала, чем мужчина отличается от женщины и как вести себя наедине с представительницей противоположного пола. Такой вот ликбез для начинающих, прививка на всю жизнь… Сначала мы краснели, бледнели, сидели в параличе, боясь оторвать взгляд от пола, но постепенно перестали стесняться… В то время случилась моя первая большая любовь. Валя Лебедева училась со мной на курсе, и наш роман продолжался долго, почти два года. Лекции, прочитанные порознь для мальчиков и девочек, делали нас с Валей соучастниками, обладателями секретного знания, которым мы осторожно делились друг с другом… Чтобы не углубляться в ненужные детали, скажу, что в стенах медучилища № 14 я стал меняться в лучшую сторону. Это произошло не вдруг и не сразу, но страшно представить, что выросло бы из меня, останься я в школе. При моих-то комплексах и лени… Потом были два года в «скорой помощи». Работал в Институте Склифосовского, на подстанциях у Киевского вокзала и в Филях. Словно бремя упало с плеч, почувствовал себя свободным, расслабился, хотя именно в неотложке увидел в неприглядных подробностях чужую боль, трагедию, смерть, жертв пьяной поножовщины, алкоголиков, наркоманов, выезжал на места автоаварий, где людей собирали по кусочкам. Было много и ужасного, и смешного, порой одновременно и того и другого… Часто испытывал состояние беспомощности, когда смотрел на людские страдания и не мог их облегчить. Врач и два фельдшера — вот и вся наша бригада. Самое страшное — дежурства на Новый год. До трех часов ночи 1 января мы могли спать, читать книги, играть в шахматы — вызовов почти не поступало. А потом начинался сущий дурдом: один напился и выпал из окна, второй с кухонным ножом выяснял отношения с соседом, третьему жена проломила голову, четвертый до смерти забил благоверную… И так — без конца. Бригад не хватало! После увиденного по-иному стал воспринимать мир вокруг. Спасибо маме, она сделала меня человеком, вывела на путь истинный. Знаешь, когда она умерла и я приехал в больницу, чтобы забрать ее вещи, среди прочего мне передали газетную вырезку, сказав, что та лежала у мамы под подушкой. Это была рецензия на спектакль «Старый Новый год», который Олег Ефремов поставил во МХАТе в апреле 73-го. Я играл Петра Полуорлова, и критик отмечал хорошую работу артиста Калягина. Тогда я еще не имел звания заслуженного… Сколько десятилетий прошло, но до сих пор ловлю себя на мысли: довольна ли мною мама, оправдал ли ее доверие? Она ведь не дожила до моих заметных ролей в театре и кино, и я теперь пытаюсь докричаться до небесной канцелярии, весточку туда передать… — В Щукинское училище вы поступали тоже с маминой подачи? — Не знаю, зачем вываливаю эти подробности, носящие личный, даже интимный характер, но тогда, в молодости, я делал все, лишь бы… ничего не делать. Главным моим талантом была лень. Фантастическая, всеохватная! Да, я бегал в студию художественного слова при Доме пионеров в переулке Стопани, мне доверяли читать правильные советские стихи перед солидными тетями и дядями на партийных конференциях. Однажды я даже выступал в Колонном зале, бодро кричал: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина…» Делегаты умилялись и хлопали хорошенькому, упитанному мальчику. А мне было безразлично, что и перед кем декламировать. Постоянно хотел играть, притворяться, лицедействовать и бесконечно страдал из-за того, что окружающие не понимают мою тонкую и ранимую натуру… Словами это состояние не описать! Представь мизансцену: единственный и обожаемый маменькин сынок идет в продмаг на углу Мясницкой (на том месте сейчас «Макдоналдс»), покупает сто граммов дешевой колбаски, в булочной напротив просит кусочек хлебца, усаживается на бульваре за спиной у Грибоедова, раскладывает на скамейке нехитрый харч и, обливаясь горькими слезами, ест жалкий бутерброд. Мимо идут люди, косятся на плачущего мальчика, кто-то подходит и спрашивает: «Тебя обидели?» — а он лишь качает головой и сильнее рыдает. Мне казалось, на свете нет более одинокого и несправедливо обиженного существа. Я откровенно упивался придуманным горем, ощущал себя брошенным сиротой. Какой-то бесплатный цирк, честное слово! Если бы мама увидела меня с тем несчастным куском хлеба, наверное, умерла бы со стыда. Я мог прекрасно пообедать дома, но весь смак заключался в представлении, разыгранном на публике! Мне надо было испытать что-то такое, особенное... Потом в театре одного актера опускался занавес, и я брел в нашу коммуналку. Мама встречала на пороге: «Ну где же ты ходишь, Аличка? Еда давно готова, уже два раза подогревала, тебя дожидаясь. Быстрее садись за стол!» И я исполнял роль голодного — теперь для мамы… Вот ты спросил про Щукинское училище. С одной стороны, мама не приветствовала увлечение театром, даже отговаривала от поступления на актерский факультет, а с другой — внутренне меня поддерживала. Она лишь хотела твердо знать, есть ли у Алика способности к лицедейству либо его призвание — медицина. Я ведь пытался поступать в «Щуку», но на первом же туре дама из приемной комиссии подозрительно прищурилась, услышав мой голос: «Вы странно сипите, молодой человек. Мне кажется, у вас узелки на связках. Принесите справку от врача». Я не стал объяснять, что специально добивался хрипотцы, дабы походить на Аркадия Райкина, страшно испугался услышанного приговора и в том году на экзамены больше не приходил. А спустя несколько месяцев мама отыскала свою бывшую студентку из пединститута, дочку заведующей кафедрой марксизма-ленинизма в «Щуке» Галины Коган, которую в училище боялись и любили. Она и договорилась с ректором Борисом Захавой, чтобы мне в индивидуальном порядке устроили прослушивание. Дело происходило зимой. В девятнадцатой аудитории за столом сидели Борис Евгеньевич, Галина Григорьевна, проректор Мария Воловикова и режиссер-педагог Анатолий Борисов. Я читал прозу, стихи и очень старался понравиться. Когда закончил, Захава сказал добрые слова, правда, посоветовал подготовить другую басню, потом что-то написал на листке бумаги и протянул записку. Грешным делом я надеялся, что тут же зачислят в училище. Нет, Борис Евгеньевич предложил прийти в июне на третий тур творческого конкурса. Конечно, я расстроился, но куда деваться-то? Дождался лета. На экзамене вместе с прошедшими предварительный отбор абитуриентами показывал этюд о фотоателье. Другие изображали посетителей, а я как бы снимал их. Импровизировал с листа, под рукой ведь ничего не было. Тут и вспомнил Чаплина: как он играл фотографа, выбирал ракурс, ронял воображаемый штатив, в прыжке пытался спасти аппарат… Моя пантомима развеселила членов приемной комиссии, они от души посмеялись. Кто-то спросил: «Вы раньше учились этому?» Ответил, что занимался в Доме культуры медработников у Нины Буйван, был чтецом в народном театре. С Ниной Адамовной я готовился и к вступительным экзаменам, репетировал «Двух братьев» Лермонтова, «Мальчиков» Чехова… Поразительно, но самые серьезные проблемы в училище я испытывал с главным предметом — мастерством актера. Хотя, например, на занятия по сценречи я не ходил, профессор Варвара Ушакова разрешала мне готовиться самостоятельно. И я воспринимал это как должное. С Валей Смирнит ским и Сашей Пороховщиковым гонял футбольный мяч на заднем дворе училища, возвращался к следующей лекции потный, в перепачканной грязью рубахе... Мы же мнили себя гениями. Считалось нормой сказать однокурснику: «Старик, этюд ты сделал феноменально». Правда, в свой адрес я не слышал таких слов. Этюды не давались мне категорически. Это был гроб, заколоченный большими гвоздями! После первых неудач развился комплекс неполноценности, я зажался, панически боялся провала, трясся на занятиях, лишь бы не назвали мою фамилию. Ничего не складывалось! Чем сильнее тужился, тем хуже получалось. В конце второго курса даже встал вопрос об отчислении за профнепригодность. Последнее слово было за ректором, ждали, пока Захава вернется из отпуска и решит, что же делать с этой бездарью. К счастью, товарищ надоумил меня сыграть сценку по рассказу Чехова о молоденьком гимназисте, который со страха напивается, готовясь к свиданию. Я убедительно изобразил все стадии опьянения, и Борис Евгеньевич поставил за экзамен тройку, позволившую мне остаться в институте. Потом, много лет спустя, я полюбил этюды. Помог Анатолий Эфрос, объяснивший, что это один из способов постижения образа. Но чтобы понять, ощутить подобное, нужно быть внутренне свободным и раскованным, а такая раскрепощенность приходит лишь с опытом. Тогда же в училище я висел буквально на волоске. Но, знаешь, с возрастом убедился, что жизнь должна периодически вправлять мне мозги. Это приводит в чувство, заставляет колотить по воде руками, чтобы не пойти ко дну, не утонуть. Хотя порой удары были очень жестокими, даже трагическими. Что хорошего, когда в течение года умирает сначала Танюша, а потом мама, и ты остаешься один с пятилетней дочерью на руках? Не дай Бог… — Вы ведь поженились с Татьяной Коруновой еще в училище? — На втором курсе. Сделали все камерно, тихо, без пышных торжеств. Не хотели привлекать внимания. Да и денег, сказать по правде, на шумные застолья не было. Таня приехала из Свердловска, где проучилась три года в университете на физмате. В «Щуку» ее взяли сразу, без каких-либо испытательных сроков. Танюша была самой талантливой среди нас, ответственно тебе говорю. И в Театр на Таганке Юрий Любимов позвал нас обоих. Мы были на третьем курсе, когда Юрий Петрович поставил «Доброго человека из Сезуана». В «Щуку» народ ломился, люди срывали двери, висели на шторах, лишь бы посмотреть спектакль. Конечно, работать у Любимова было почетно. Начинали мы с массовки, с маленьких эпизодов. Бегали все вместе — Толя Васильев, Зина Славина, Валера Золотухин, Володя Высоцкий, я… Любимов фонтанировал идеями, постоянно что-то придумывал, менял, переиначивал, манипулируя актерами, как фигурками на шахматной доске. На первых порах это воспринималось нормально, но к концу второго сезона безостановочная беготня и суета стали меня утомлять. Я не понимал смысла этих хаотичных перемещений. Да, мне дали одну из главных ролей в спектакле «Только телеграммы», я успел дважды сыграть Галилея, когда Высоцкий, очень ревниво относившийся к любым вводам на его роли, уехал к Марине Влади в Париж, тем не менее я не мог избавиться от чувства, что вязну в пучине, погружаюсь в нее. Недолго думая, написал письмо Любимову. Мол, как вы смеете унижать мое актерское достоинство! Ведь Любимов, как, впрочем, позже и Ефремов, почти никогда не хвалил, а для артиста доброе слово худрука очень важно. Я же воспринимал ситуацию предельно серьезно. Вот такой я неуживчивый и принципиальный… Любимов тогда обалдел от моей наглости. Его пытается поучать актеришка, отработавший в театре полтора года?! Это находилось за гранью понимания Юрия Петровича, а я считал необходимым расставить точки над «i». С Олегом Ефремовым я тоже выяснял отношения. У меня и переписка наша сохранилась. Потом уже была настоящая мужская дружба, теплые, почти родственные отношения. Порой до смешного доходило. Как-то Олег Николаевич пришел к нам с Женюрой (Евгения Глушенко, жена Александра Калягина. — «Итоги») домой на улицу 1905 года, мы поужинали, выпили, и он в шутку сказал: «Эх, Сашка, был бы бабой, трахнул бы тебя!» При этом Ефремов мог незаслуженно обидеть, сделать больно. Я же помню, как он поступил с Евстигнеевым, которого тоже любил. Женя однажды сказал, что ему тяжело играть по двадцать спектаклей в месяц. Он тогда женился, старался сниматься в кино, чтобы зарабатывать какие-то деньги помимо театра. А Олег рубанул с плеча: «Раз трудно, подавай заявление, уходи на пенсию». Удар ниже пояса! Женя, естественно, вспыхнул, тут же написал бумагу и положил на стол Ефремову, а тот с ходу ее подмахнул… Евстигнеев сильно переживал, звонил мне, спрашивал: «Ну как же так? За что?» Он ведь был самым верным соратником Олега, всегда и во всем его поддерживал. Думаю, и скорый уход Жени из жизни невольно спровоцировали те события… Как в анекдоте: «Отчего умер покойник?» — «Разве не видите? Все на венках написано. «От коллег», «От друзей», «От родных…» Братская любовь не помешала Ефремову и меня не отпустить летом 78-го года на съемки к Андрею Смирнову. Я был утвержден на главную роль в фильме «Верой и правдой», мы заранее оговорили и согласовали даты, и вдруг Олег Николаевич заявляет: «Нет, никуда не поедешь. Сиди с труппой и репетируй «Утиную охоту». А кино подождет!» Мне показалось это чистой воды деспотизмом и блажью главного режиссера, показывающего, кто в доме хозяин. Я попробовал напомнить о нашем уговоре: «Олег Николаевич, вы ведь сами назвали Смирнову числа, на которые сможете отпустить меня. Андрей уже собрал съемочную группу, люди приехали из разных городов». Ефремов стоял на своем: «Ничего страшного! Эта роль от тебя никуда не убежит». Поняв, что устные аргументы силы не имеют, я обратился к Олегу Николаевичу письменно. Вот фрагмент того послания. «Савва Морозов вроде бы советовал Владимиру Данченко: никогда не пишите писем. Но мне до сих пор кажется, что писать начальникам полезнее, чем беседовать с ними один на один... На мой взгляд, порядочность по отношению к людям, к слову, которое даешь, должна присутствовать всегда — это одно из необходимых качеств, имеющихся у интеллигентных людей. Вот почему не могу согласиться с Вашими словами, мол, не волнуйся, пусть они волнуются…» Ну и так далее. Наехал на главного режиссера по полной программе. Подговорил девочку из дирекции театра, которая была влюблена в меня, чтобы т а передала письмо Ефремову. На следующий день Оля принесла ответ: «Уважаемый Александр Александрович! Вы предлагаете эпистолярный жанр — пожалуйста. Я сегодня говорил по телефону с Вашим режиссером Андреем Смирновым, и, мне кажется, он понял меня…» Все корректно, вежливо, но подтекст такой: это кто взялся рассуждать о совести? Уж ты, Калягин, лучше бы помолчал. «Не Вам говорить о порядочности… Глупо перечислять случаи, когда Вы подводили других людей и театр…» Так мы порой общались с Ефремовым. Вот скажи, откуда это во мне? Да, я понимал необходимость поиска компромиссов, но продолжал гнуть свою линию, демонстрируя принципиальность и неуступчивость. Как с этим бороться? Только давать по башке. Иного способа нет. Первым мне настучал Любимов. И сделал это жестко, как умеет. Я ведь после адресованного ему письма решил уйти из «Таганки». Юрий Петрович отговаривал, убеждая, что совершаю ошибку, но я стоял твердо. Написал заявление по собственному желанию и положил на стол Любимову. На этот раз он ничего не сказал, но когда я уже выходил из кабинета, зло бросил: «Вместе с женой пришел — вместе и уходите!» Танюша в тот момент была беременна Ксанюлей, собиралась в декретный отпуск, и никто не имел права ее уволить. Любой суд оспорил бы решение и восстановил на работе. Но надо было знать Татьяну: она не унизилась бы до исков и разбирательств… Я вернулся домой и не мог подобрать слова, чтобы сказать жене о решении Любимова. Услышав новость, Танюша не проронила ни звука, но как-то потемнела лицом. Все, больше она не появлялась в театре, не снималась в кино. Наверное, это мои домыслы, но убежден, Таня заболела именно тогда. Еще раз скажу: она была очень талантливая, гораздо способнее меня и любого из наших однокурсников. В Театре на Таганке Танюша изумительно играла в «Антимирах», в «Павших и живых». Старые театралы наверняка помнят эти спектакли… Из «Таганки» мы ушли буквально в никуда. — Вы простили Любимова, Сан Саныч? — Он мой учитель, и этим все сказано. Два года назад Роберт Стуруа поставил в «Et Cetera» «Бурю», где я играю главного героя. У Шекспира этого нет, но Робик решил, что Просперо должен умереть, всех перед тем простив. Ход гениальный! Это и по тексту читается: К концу подходит жизни бег, Я слабый, грешный человек. Все грешны, все прощенья ждут. Уж так устроена природа… Эта роль переменила меня. Очень часто мысленно обращаюсь к идее всепрощения, ищу ресурс, чтобы быть великодушнее. Честно скажу, получается не всегда. С годами мы меняемся, чувства притупляются, острота восприятия пропадает, что-то из нас уходит, наверное, я тоже огрубел, покрылся броней из толстой, невосприимчивой к укусам кожи, но... Ладно, давай объявим недельный антракт, уж больно печальная история получается…