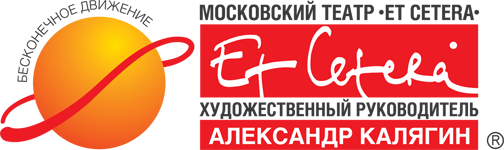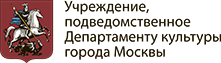Пресса
5:00
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0:00
Соло для магнитофона с артистом
Людмила Печерская
"Украина и мир сегодня" ,
11.06.2004
Седые космы, густая щетина, воспаленные глаза, дырявые обноски, «снайперская» перчатка без пальцев, потрепанный котелок на голове — таким предстал перед киевскими зрителями 10-11 июня Александр Калягин в одной из самых «безнадежных» ролей мирового репертуара — одинокого старика и неудавшегося писателя Крэппа. Почему-то именно пьесу Бэккета «Последняя запись Крэппа» в постановке Роберта Стуруа актер выбрал два года назад, чтобы отметить свой юбилей, и возвратился к ней к нынешнему дню рождения. Очевидно, для Калягина она — знаковая. Как всегда, у абсурдиста Бэккета текст пьесы куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому дает возможность множественных интерпретаций. И если в пьесе Крэпп выясняет отношения с бытием, то у Стуруа и Калягина — с жизнью. Эта жизнь — точнее, воспоминание о ней, ибо 69-летний старик ведет свой диалог с собой же, но 39-летним, голос которого он записал на пленку — и материализуется на сцене. Включая мелькающую в спектакле немой тенью женщину, которую герой когда-то очень любил. Возможно, всех бэккетовских глубин Стуруа не вскрывает, но в его спектакле точно передано ощущение жизни, которая сыплется как песок сквозь пальцы, и отчаянное желание героя уцепиться за нее. Спектакль короток — чуть дольше часа, но в нем спрессована вся человеческая жизнь: никчемный полумертвый старик сидит за столом и прослушивает старые магнитофонные записи. Иногда проклинает своего аудиодвойника, иногда издевательски хохочет над ним. В моноспектакле у Калягина, как ни странно, нет почти ни одного монолога. Он изредка вступает в диалог то с магнитофоном, то с подпрыгивающим мячиком, то с черепашкой. С Богом беседует точно в таком же тоне, как и со своим домашним хламом: вежливо осведомляется у Него, чем тот занимался до сотворения мира и наивно спрашивает, не нужно ли отслужить заупокойную мессу по живым. Крэпп жадно поглощает бананы и трясет карманные часы. Зря трясет, ибо время не движется. Калягин большей частью молчит и лишь слушает, однако молчит на грани гениальности. Если бы он сыграл бомжеватого старика, загнанного — собой ли, жизнью ли - в глухое подземелье (в лабиринты метро), выжимая из зрителя слезы сострадания — то его Крэпп показался бы всего-навсего пустым и жалким ничтожеством, брошенным всеми на старости лет. Но кто поверил бы тогда его крику: «Я мог быть счастлив!» Этому — веришь: он и впрямь мог, но не захотел или не сумел. А жизнь заканчивается. Артист Калягин, добившийся достатка, всевозможных чинов и славы, не скрывая и не лукавя, играет себя, свою собственную «погубленную» жизнь. Он глубоко уверен, а потому и доказывает нам, как дважды два, что всякая человеческая жизнь — загубленная. Кто думает иначе — счастливец, сиречь безумец. Помните калягинского Платонова в михалковской ленте «Неоконченная пьеса для механического пианино»? «Это» началось с ним уже тогда: «Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. ..». Годы, видимо, только усугубили «процесс», так что и Бэккет к «юбилейному столу» отнюдь не случаен. Очевидно, у каждого из нас рано или поздно должен состояться суд совести с вынесением себе самого сурового приговора. Калягин «созрел», и его Крэпп всепроникающе трагичен: он шут и страдалец одновременно, как, по большому счету, каждый, даже если он себе в этом не признается.…После спектакля я с удовольствием пересмотрела «Здравствуйте, я ваша тетя» — в качестве успокоительного для души — уж слишком сильное она испытала потрясение.